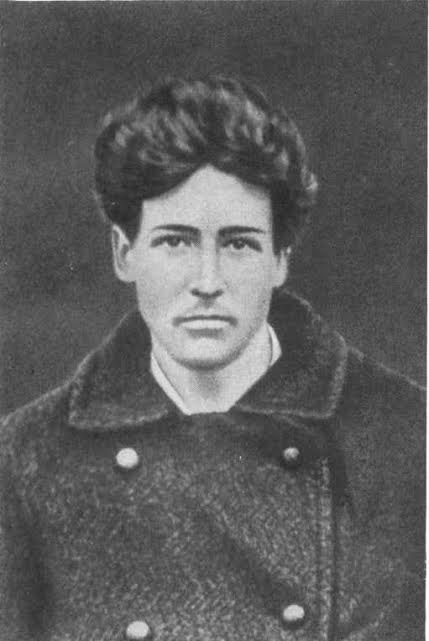
| Saint-Juste > Рубрикатор | Поддержать проект |
Аннотация
Несколько лет тому назад А. П. Корба-Прибылева напечатала в «Каторге и ссылке»[1] статью о Н. А. Желвакове, которую кончала призывом к «родственникам» и «землякам» Желвакова откликнуться и описать его детство и учебные годы. Совсем недавно откликнулся на этот призыв брат Желвакова[2][I]. Однако, не более, чем дореволюционные годы жизни Желвакова, известен и недолгий путь его революционной деятельности. О последнем, кроме скудных сведений о процессе, где Желваков не назвал себя и был осужден под именем Косогорского[3], только и есть, что упомянутая статья А. П. Корбы, да отрывочная заметка, напечатанная еще в старом «Былом»[4].
В настоящее время в бумагах В. Я. Богучарского[II], находящихся в Музее революции СССР, оказалась заметка, несомненно написанная в 1882 г. и, по-видимому, предназначавшаяся к напечатанию, по типу — скорее всего в таком сборнике, каким был сборник «На родине»[III]. Эта заметка дает более сведений о Желвакове, чем какой-либо другой из известных до сих пор документов, причем детали этих сведений как нельзя лучше совпадают с тем, что нам сообщают другие источники. Однако кое-чем возможно дополнить и эти сведения.
Прежде всего — о семье Желвакова. Несколько скудных черточек о ней было сообщено вятским губернатором, после того как личность Желвакова была установлена. Отец Желвакова, Алексей Иванович, священником никогда не был (как это говорится в ниже печатаемой заметке), а был топографом съемочного отделения в вятском отряде по составлению и выдаче государственным крестьянам владенных записей. По происхождению своему Алексей Иванович был воспитанником московского воспитательного дома; семья его состояла, кроме Николая, еще из 4 сыновей и 2 дочерей. Николай Алексеевич, по словам отца, учился в вятской гимназии, но не окончил ее, выйдя из 6 класса. По словам отца же, он в гимназии «был примерного поведения и отличался особенно хорошими успехами». В Петербург Желваков уехал в 1874 г. и жил здесь на средства отца[5]. Как узнаем из другого источника, в октябре 1880 г. Желваков поступил вольнослушателем в Петербургский университет, но пробыл здесь недолго: уже 6 января 1881 г. он выбыл вследствие неуплаты денег. По словам секретаря университета Погорелова, Желваков в это время занимался перепискою бумаг у присяжного поверенного С. И. Сермягина[6].
Печатаемая нами заметка относит к осени же вступление Желвакова в рабочую организацию «Народной воли». Нельзя не связать с этим и передаваемого в качестве «слуха» редакцией «Былого» факта, что Желваков предлагал Желябову свои услуги в качестве метальщика к 1 марта: известно, что именно из рядов рабочей организации Желябов привлек большинство метальщиков (из четырех метальщиков один Емельянов не состоял в рабочей организации)[7]. Желваков не был назван Рысаковым, а может быть остался ему неизвестен, и избежал таким образом ареста. В этот послепервомартовский момент Желваков входит в орбиту внимания мемуаристов. Если В. И. Сухомлин лишь мимоходом упоминает о своих встречах с ним[8], то А. П. Корба детально описывает его настроение, создавшееся под впечатлением 1 марта и казни 3 апреля: его решение самому пойти на акт террора и его согласие отправиться для ознакомления с настроениями народа. Вполне с этим совпадают данные нашей заметки, до такой степени (расхождение лишь в том, кто был инициатором поездки на Дон, А. П. Корба или сам Желваков, причем, конечно, все психологические преимущества на стороне версии А. П. Корба), что нам показалось, что автором печатаемой заметки была А. П. Корба, которая, однако, не признала себя таковым: тем ценнее совпадение этих данных, исходящих от непосредственных свидетелей настроений Желвакова. Город, куда уехал Желваков, у нас названный N, а у А. П. Корба полностью — был Ростов-на-Дону. Что там делал Желваков, завесу этого отчасти открывают показания некоторых из привлекавшихся по позднейшим дознаниям. Так, А. А. Остроумов, известный впоследствии предатель, рассказывает в своих показаниях о своих встречах в Ростове с Желваковым: «В 1881 г., приблизительно в праздник Троицы, ко мне в Ростов явился неизвестный мне человек, который назвался Иваном и который, как я после узнал, был Желваков, впоследствии убивший генерала Стрельникова. Желваков сказал мне, что он приехал из Петербурга и явился ко мне по рекомендации Грабенко (школьный товарищ Остроумова), что он приехал на юг для собирания сведений о том, какое впечатление произвело злодеяние, совершенное 1 марта, при этом Желваков дал мне революционные газеты “Черный передел” и, кажется, “Народную волю”». Если это показание Остроумова как нельзя лучше подтверждает указываемые в упоминавшихся документах цели поездки Желвакова, то и о той ростовской среде, в которой действовал Желваков, у нас есть столь же согласованные свидетельства, хотя и гораздо более скудные. Тот же Остроумов передает, что он встречал Желвакова «иногда на улице с рабочим Николаем Мартыновым[IV]». Но известно, что Мартынов, впоследствии шлиссельбуржец, был одним из заметнейших деятелей среди ростовских рабочих, и сам Остроумов в это же время вел с ним разговоры «о неудовлетворительном положении рабочего класса». Что именно деятельность среди рабочих была главным делом Желвакова в Ростове, на это есть и другое, более прямое указание. Сергей Павлович Линицкий в своих показаниях передает, как в Харьков, игравший роль южного центра, приехал «весною 1882 года» (это могло быть только в феврале) Желваков к Всеволоду Гончарову и как после этого он, Линицкий, «был послан в Ростов для занятий с рабочими на место Ивана» (т. е. Желвакова). Желваков уезжал из Ростова и на Кавказ, как о том говорит Остроумов, но ближе об этом нам ничего не известно[9].
Тому, что переживал Желваков непосредственно перед стрельниковским актом, остался документ, из того рода документов, которые называют «человеческим документом». При аресте у Желвакова была взята записная книжка, чрезвычайно обеспокоившая власти имевшимся в ней чертежом железнодорожного пути. В этом был заподозрен план нового подкопа, книжка переслана в департамент полиции и благодаря этому сохранилась до наших дней. На семи страничках этой книжки имеются записи Желвакова, которые он делал по пути в Одессу, в промежуток от 1 до 16 марта (Стрельников был убит 18 марта). Этот небольшой дневничок, содержащий пять записей, озаглавлен Желваковым: «Дневник озлоблен[ного] человека», и я приведу их целиком[10].
Так, в этом небольшом дневничке переплетены сложные переживания предчувствовавшего свою гибель Желвакова. И жажда подвига, боязнь умереть «бесполезно», стремление умереть именно «на пользу этих муравьев-людей, на пользу муравейника», вместе с тем презрение к этому муравейнику, который молча смотрит на гибнущих за его счастье, и жажда жизни, с ее весною и с музыкою, с чувством отчужденности от этой расцветающей жизни; и словесный материализм — с буйной идеалистической романтикой. Трудно разгадать теперь эту душу, которая вся тянулась к подвигу во имя блага человечества и уже явно видела безнадежность этого подвига в условиях общественного безразличия и политической реакции.
16 марта вечером занесена последняя запись в книжке, а уже 18 марта Желваков стрелял в Стрельникова и был схвачен. Официальный документ несколько иначе изображает неудачу попытки Желвакова скрыться, чем печатаемая ниже записка: Желваков был задержан, не успев сесть в руководимую Халтуриным пролетку[11]. Теперь уже опубликована телеграмма Игнатьева о том, чтобы по повелению Александра III Желваков и Халтурин «были немедленно судимы военным судом и в 24 часа повешены без всяких оговорок», а также последующая переписка, относящаяся к скоропалительному суду и казни Желвакова и Халтурина[12][V].
* * *
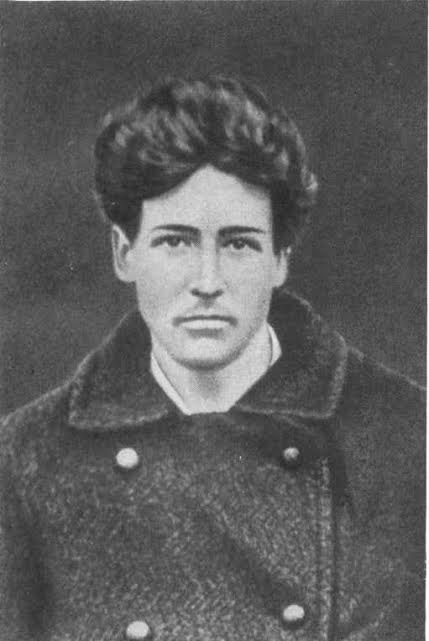 |
Сообщаю некоторые сведения о Желвакове, к сожалению, весьма краткие и неполные; но пусть они послужат началом его биографии, которая без сомнения будет написана людьми, знавшими его близко. Желваков, как и товарищ его по виселице Халтурин, был родом из Вятской губернии и происходил из священнической семьи. В Петербурге он состоял вольнослушателем естественного факультета, но, будучи замешан в истории Когана и Подбельского[VI], принужден был оставить университет в феврале 81 года. С осени 80 г. Желваков примкнул к группе людей, занимавшихся пропагандой между петербургскими рабочими под руководством Желябова, Перовской, Гриневицкого и других. В то время на вид ему можно было дать года 22, наружность его не поражала ничем особенным, но на него было приятно смотреть, как на юную расцветавщую жизнь, полную физических и нравственных сил. Сложен он был на славу: несколько выше среднего роста, широкоплечий, а в развитии мускулов не уступал любому мужику. Карточки, ходившие по рукам после его смерти, отнюдь не воспроизводят его образ; лицо у него было продолговатое, с сильно развитыми лицевыми мускулами, но скулы не выдавались так резко, как изображено на портретах. Глаза его синие, пожалуй, были красивы, но что в них приковывало все внимание собеседника, — это взгляд, выражавший спокойную энергию и большую силу воли. Нельзя, я думаю, вспомнить Желвакова, не вспомнив в то же время этого взгляда его. У людей дюжинных не бывает такого выражения глаз.
3 апреля 1881 г. он присутствовал при казнях, и, так как он лично знал Софью Львовну, не раз встречался с Желябовым и слышал его речи на сходках молодежи зимою, то легко представить себе то потрясающее впечатление, какое произвело на него это событие. Он провожал осужденных по улицам и во время исполнения кровавой расправы находился на площади. Возмутительны были подробности казни. Осужденные, одетые в отталкивающие костюмы, назначение которых представить осужденных в глазах толпы в виде отрепья, были посажены на столь узкие и короткие скамьи, без всякой опоры для ног и спины, что тела их, привязанные к высоким железным длинным шестам, во время переезда на толчках колесницы раскачивались по воздуху как неодушевленные предметы; пьяный палач, которого пришлось стащить с телеги силой, так как он сам не в состоянии был сойти с нее; троекратное повешение Тимофея Михайлова при криках, раздавшихся из толпы: «третий раз не вешают»; аресты лиц, высказывавших сочувствие убиенным, а в противоположность зверству и безобразию — лица жертв с просветленным выражением мучеников, самый факт, что убивались люди, только что совершившие дело, отдаленный результат которого будет освобождение России, что убивались Желябов, Перовская, Кибальчич, столь же великие умом как и энергией и силой воли, — все это отзывалось в Желвакове нестерпимым негодованием и гневом, укрепляло геройскую решимость умереть за народное счастье, подымало его чувство на неиспытанную дотоле высоту.
Не в силах оторваться от места, где только что были убиты люди, смерть которых на всем протяжении России всколыхнула душу каждого, способного на человеческие чувства, он вернулся на площадь несколько часов спустя. На этот раз Семеновский плац был пуст, и только на окраинах его виднелись небольшие кучки людей. Желваков направился к ним; это оказались рабочие, не расходившиеся еще по домам и тихо разговаривавшие между собой о казнях. Лица их были задумчивы и сосредоточены. Когда подошел к ним Желваков, они вступили с ним в разговор, сначала боязливо и с острасткою, но, освоившись, высказали, что недоумевают, что за люди повешенные. С одной стороны, они слышали, что это злодеи и что царя они убили, потому что дворяне его ненавидят; но вот между ними же рабочий Михайлов, а они слышали от товарищей, что Михайлов не такой человек, чтобы принимать участие в дурном деле; потолковав с рабочими, Желваков отправился домой, на этот раз в несколько более светлом настроении. Разговор с рабочими затронул вопрос, в то время мучительно волновавший его, вопрос о значении для народа террористических фактов и отношения к ним народа. Передаю эти подробности, потому что слышал их из уст самого Желвакова тогда же. При нашей беседе обнаружилось его великое самообладание. Как ни легко было угадать волновавшие его чувства, наружность его ничем их не выдавала, только во всем существе виднелась твердая решимость продолжать дело людей, только что обращенных в трупы.
На другой день после казней он предложил свои услуги Исполнительному комитету. Он говорил, что никогда еще не сознавал так ясно, как со времени 1 марта, что террор — тот революционный путь, которым подготовляется народное освобождение, и поэтому он лично посвящает себя террористической деятельности. На возражения, что в минуты такого сильного душевного волнения не следует принимать бесповоротных решений, он отвечал, что, если бы намерение совершить террористический факт явилось у него под впечатлением казни, он не доверился бы ему сам и стал бы себя испытывать, но что это давнишнее его решение и теперь только выступило с большей силой и настойчивостью. В доказательство того, что его желание не есть временная вспышка, он приводил то, что он не обусловливает совершение факта немедленного его исполнения, а будет ждать сколько потребуется. Он находил, что для выполнения задачи, которую он себе поставил, даже лучше, если услуги его потребуются лишь некоторое время спустя. План его состоял в том, чтобы на лето отправиться в места большого скопления рабочего люда и собственным наблюдением убедиться в настроении народа. Для него была невыносима мысль, что народ навсегда останется безучастным зрителем совершающейся борьбы и не способен выйти из пассивного состояния. Нет, говорил он, необходимо, чтоб народ узнал своих друзей и пошел по пути, который они ему указывают. Соответственно он не предполагал, что поднятие народа могло совершиться немедленно, он желал только убедиться в возможности такою факта в будущем; напротив, он полагал, что еще долгое время партии придется вести борьбу отдельно от народа, постепенно подготовляя его и волнуя событиями; чтобы вполне убедиться в правильности такой постановки дела, он хотел увидать на месте, как отражаются политические факты непосредственно на народе, так ли, как он решал a priori — или иначе как-нибудь. Этим путешествием, говорил Желваков, я осмыслю вполне свою будущую террористическую деятельность, и она станет мне еще дороже, чем она была уже теперь.
Выполнение этого плана не представляло трудностей, как он уже и прежде бывал в народе и в 80 году два месяца бурлачил на Волге под Рыбинском, и роль мужика удавалась ему как нельзя лучше. Не будучи уверен, что план отправки его в народ будет принят Комитетом, он заявил, что отправится в таком случае на собственные средства, хотя сознает, что у него ничего нет для выполнения своего намерения. Но после 1-го марта явилась настоятельная необходимость узнать настроение народа, и Желваков был в числе лиц, отправленных тогда с этою целью в разные места России. Недели две спустя Желваков, снабженный всем необходимым для своего путешествия, обстриженный в скобку, одетый мужиком, с мешком за плечами и фальшивым паспортом за сапогом, в бодром настроении духа отправился на Дон. Ему дали рекомендации в N, где он должен был быть проездом, и просили при случае побывать там и ознакомиться с тамошними делами.
До осени 81 г. о нем получались лишь отрывочные сведения, но осенью он вернулся в Петербург, с новым запасом энергии, ликующий и счастливый. Личные наблюдения превзошли его надежды; он нашел настроение народа возбужденным и чреватым будущими великими событиями. И это не было самообольщением с его стороны; волнения на юге и еврейские погромы подтверждали его выводы. Вскоре после того, он снова был послан в N с организационными целями и увез с собой обещание вызвать его при первой необходимости совершения террористического акта. При его содействии дела в N разрастались, и в течение зимы удались некоторые полезные предприятия.
Но нетерпение овладевало Желваковым все более и более; городская деятельность, сравнительно однообразная, тяготила его; в то время он был вызван в М[оскву] для переговоров о затевавшемся стрельниковском деле. Приготовления затянулись недели на две, и в это время он писал в Петербург. Все письмо составляло один вопль души. Он скорбел о медленном ходе революционого дела, он торопил события и желал немедленного участия в решительном факте. Вскоре он уехал в Одессу. Очевидец рассказывает, что при обсуждении стрельниковского дела и при подготовке его Желваков выказал много сообразительности и организаторский талант.
Главную роль он не уступал никому и настоял на своем. Он отвергал необходимость в экипаже и говорил, что даже легче спастись без него, но мнение Халтурина, столь же упорного как и земляк его, одержало верх, и экипаж был приобретен. Тот же очевидец передает, что факты оправдали мнение Желвакова. Не будь лошади — обе жизни и Желвакова и Халтурина были бы сохранены. Мгновенно после выстрела Стрельников упал мертвым, и столь же мгновенно между гуляющей публикой распространилась паника. Никто, ни один шпион, бережно охранявший Стрельникова, не подумал искать убийцу. Публика толпилась бессмысленно, как стадо баранов, и не было ничего легче, как вмешаться в ее ряды, но некогда было соображать. По условленному заранее плану Желваков бросился бежать вниз по откосу набережной и вскочил в дрожки. Дрожки тронулись с места; еще одно мгновение — и оба — и седок, и кучер — были бы спасены; но ряд ломовых телег, потянувшихся с набережной, внезапно преградил им дорогу, и они погибли.
Перед полевым судом и во время казни Желваков и Халтурин держали себя неподражаемо. Они издевались над судьями и смеялись над палачом.
* * *
1-е марта.
Весна растворяет окна, вызывает на улицу, на солнце. Все оживляется, движется, хлопочет, радуется. Я же чувствую какое-то утомление, даже отупение... Движения ума, сердца, тела парализованы чем-то...
2 м. Курск.
Где цель, смысл существования, где жизнь души, когда один прыжок, несколько лишних глотков воды могут прекратить органическую жизнь и, следовательно, духовную.
Жизнь духовная, душа, как нечто независящее от материи... что это? Не фантазия ли это, примиряющая с жизнью, миром. Не блуждающий ли это огонек, не мираж ли в пустыне, к которому истомленный путник так страстно стремится? Он видит впереди деревья, воду и, спотыкаясь и падая от усталости, идет и идет. Путник уже вполовину удовлетворен, потому что видит впереди оазис или вернее призрак, похожий на оазис, теперь и камни не представляют ему таких препятствий, какие чувствовались бы им, если бы не было впереди оазиса! Но что станется с ним, когда он разочаруется? Да, жизнь есть фантазия, мираж, и когда эта фантазия разбита, человек перестает уже быть человеком, он уже не чувствует, не живет, перестает понимать людей, их страсти, мысли, движения: ему все кажется таким пустым, бессодержательным, бесцельным; жизнь — детской комедией, люди — какими-то миниатюрными живыми существами с своими желаньицами и стремленьицами. Пусть встанет человек на высоту философа и только одно мгновенье взглянет объективным взглядом на людской муравейник и его историю, и ему сделается так горько, и в то же время смешно и больно, что он не выдержит и поскорее опустится на землю в этот самый муравейник и растеряет в суете и боль, и горечь, и смех, и объективность. Только болезненно чувствительные субъекты остаются на этой высоте и, теряя свое я, прощаются с жизнью.
14. Николаев. Этот широко раскинувшийся, но низенький город засыпает. Орфей в ночной мгле спустился на землю. «Спать, спать, спать!». Ах, как я хотел бы уснуть, заснуть и не просыпаться!.. Но странно… Боже мой, как смешно и странно! Я не верю в духовный мир, не зависящий от материи, я не верю в цель существования человека, и в то же время мне не хочется кончить свою жизнь так, бесполезно! Мне хочется умереть на пользу этих муравьев-людей, на пользу этого муравейника, который я подчас презираю и из которого, если бы только был выход, я вышел бы тотчас.. Что это за чувство, которое… Слушайте, кто-то играет, поет… Звуки, милые звуки, как чудно хорошо раздаетесь в ночной тишине. Откуда вы? Скажите, где тот мир, где та чудная вселенная, откуда вы пришли сюда, к нам, на землю?
15-е утро.
Хихахахаха!!! Я прочел конец вчерашнего писания.
16-е веч. Одесса.
Палуба. Молодой матрос «подлизывается» к девушке, острит над всем и надо всеми. Как-то коснулось до царя.
— Старый-то, говорят, добрый был, — говорит девушка, — а новый скуп!
— Глуп? — как бы не дослышав (часто употребляемый остряками-крестьянами из молодых прием), спрашивает моряк, — нет, не глуп, а немножко тронулся! Так, немножко, чуточку только! — поясняет он жестом и улыбкой. Что ему за дело в данную минуту до царя? Лишь бы увидать улыбку на губах девушки, он для красного словца до[13] улыбки девушки не пожалеет ни мать, ни отца, а царя и подавно. Что такое царь для крестьянина? Когда-то бывший отцом-защитником их интересов человек, не больше. Теперь эта идея падает мало-по-малу, к ужасу тупоголовых правителей; даже к убийству императора многие отнеслись индиферентно, как ни прискорбно, но это так! «Ну убили, так и убили, значит, за что-нибудь следовало!» Вот и все, что нашлась высказать по этому поводу русская голова! Хихаха. О, цари, цари! На что вы надеетесь, где вы видите опору? В мясницком ряде, в ножевой улице? Будьте умнее! Разве вы не видите, что у мясников руки чешутся, — им лишь бы бить, а за что? — это не ихнее дело! Переменится ветер и, верьте, они же первые начнут разбирать ваши дома, пробовать силу своих мышц на ваших личных боках...
Примечания
[1] Каторга и ссылка, 1924, № 5 (перепечатано: Народная Воля. М., 1926, с. 84—86).
[2] Желваков И. К биографии Н. А. Желвакова // Каторга и ссылка, 1929, № 8—9, с. 241—243.
[3] Рубач М. Убийство ген. Стрельникова и казнь Халтурина и Желвакова // Летопись революции, 1924, № 2, с. 185—191).
[4] Л. Страница из давно написанных воспоминаний // Былое, 1906, № 4, с. 103—106).
[5] Архив революции и внешней политики. Дело департ. полиции, 3 дел., 1882 г., № 423. О казненном госуд. прест. Ник. Желвакове. л.л. 1—2 об.
[6] Дело департ. полиции, 4 дел., 1882 г., № 191. Об убийстве г.-м. Стрельникова, л. 58.
[7] Былое, 1906, № 5, с. 162 (примечание к статье А. В. Тыркова).
[8] Автобиография в Эницклопедическом словаре «Гранат», т. 40, столб. 419.
[9] Показания обоих имеются в деле петербургского военно-окружного суда, 1887 г., № 298, т. XX, л.л. 79 (Линицкий) и 52 (Остроумов).
[10] Записная книжка Желвакова находится в деле департамента полиции, часть секретная, 1882, № 410, о выяснении указаний, найденных в бумагах казненного Желвакова.
[11] Указанная статья М. Рубача, с. 188.
[12] Там же, с. 185—191.
[13] Так в подлиннике.
Комментарии
[I] См. Приложение.
[II] Богучарский (Яковлев) Василий Яковлевич (1860—1915) — российский политический деятель, писатель, публицист, переводчик, издатель, историк революционного движения в России, редактор журналов «Былое» и «Минувшие годы».
[III] «На родине» — сборник народовольческой публицистики, выпускавшийся эмигрантами в 1882—1883 гг.
[IV] Мартынов Николай Федулович (?—1903) — российский революционер-народоволец. Видный деятель рабочей организации «Народной воли». Арестован в Киеве, при аресте оказал вооруженное сопротивление. В 1884 г. по «процессу 12-ти» приговорен к 12 годам каторги, которую отбывал в Шлиссельбургской крепости. Застрелился в Якутске в мае 1903 г.
[V] См. Прокофьев В. Последнее свершение (Приложение).
[VI] 8 февраля 1881 г. во время посещения министром просвещения А.А. Сабуровым Петербургского университета студенты-народовольцы устроили антиправительственную демонстрацию. Лев Коган-Бернштейн выступил с обличительной речью, а Папий Подбельский дал пощечину Сабурову.
Опубликовано в журнале «Каторга и ссылка», 1929, № 12 (61).
Комментарии Романа Водченко.
Сигизмунд Натанович Валк (1887—1975) — советский историк, архивист, доктор исторических наук (1936), профессор (1946).
Из семьи аптекаря. В 1906 г. исключен из лодзинской гимназии за сочувствие польским социалистам. В 1907 г. окончил частную гимназию с серебряной медалью, в 1913 г. — историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1913—1914 гг. — заведующий отделом русской истории в редакции «Энциклопедического словаря» братьев Гранат. В 1915—1917 гг. — на армейской службе. В 1918—1927 гг. — заведующий отделом, старший архивист Петроградского историко-революционного архива. В 1928—1929 гг. – внештатный сотрудник Публичной библиотеки, вел преподавательскую деятельность. С 1932 г. — сотрудник Института книги, документа и письма. С 1936 г. — старший научный сотрудник, заведующий сектором Ленинградского отделения Института истории АН. С 1968 г. — редактор ежегодника «Вспомогательные исторические дисциплины». Занимался изданием сборников документов по разным периодам российской истории — от средневековья до XX века, в том числе по истории освободительного движения в России.
Основные публикации: «Архив “Земли и воли” и “Народной воли”» (1932), «Декреты Октябрьской революции» (1933), «Листовки Петербургского “Союза борьбы за освобождение рабочего класса”» (1934), «Дело петрашевцев» (1951), «Революция 1905—1907 в России» (1955), «Декреты Советской власти» (1957—1971), «Крестьянское движение в России в 1796—1825 гг.» (1961), «Революционное народничество 70-х гг. XIX в.» (1964—1965).
Николай Алексеевич Желваков родился в г. Вятке, в 1859 г.[*]
Отец его, человек очень неглупый, был землемером; вечно занимался разными изобретениями и вечно был в оппозиции к существующим порядкам, что не стеснялся высказывать и при детях. Мать была женщиной очень доброй, отзывчивой и в то же время замкнутой в себя, с сильным, твердым характером и большой силой воли. Николай Желваков был первенцем в семье и характером своим более походил на мать, но в детстве был мальчиком живым. Мать его (как и он мать) очень любила, хотя и не показывала этого при других детях, которые (четыре сына и две дочери) родились после Николая.
С раннего детства Николай Желваков летом во время каникул жил в деревнях, иногда очень глухих, куда отец ездил из Вятки для межевых работ. В деревнях он быстро сходился с живущими там ребятами и все лето проводил с ними, если только не был занят со своими младшими сестрами и братьями, с которыми также любил возиться, водил их в лес, купался с ними, искал для них гнезда и т. д.; дети очень любили с ним ходить. С крестьянскими ребятами он делал все, что делали те, т.е. возил навоз на поля, гонял лошадей на водопой, несясь на неоседланных лошадях в перегонки, сгребал сено и т. д. Отец и мать не препятствовали этому, а наоборот, считали это необходимым, желательным для детей. И Николай Желваков еще в детстве близко узнал крестьянскую жизнь, все ее нужды и не раз был также свидетелем бесправия и приниженности крестьян перед начальством. Он был очень отзывчивым и добрым по натуре, и, например, купивши чижа или зяблика, не мог долго держать их в клетке; ему становилось их жалко, и он выпускал их на волю, унося клетку в лес. Однажды он поймал кем-то раненую белку, принес домой и стал лечить; белка выздоровела и сильно привязалась к мальчику: сидела у него на плече, ела из его рук. Но наступило лето, и мальчик со слезами на глазах унес белку в лес и выпустил ее на волю.
Но вместе с добротой и отзывчивостью и какой-то особой деликатностью, Николай Желваков еще в детстве обладал очень сильным характером, и раз он решал, что он что-нибудь должен сделать, то он это делал, хотя бы сердце разрывалось от жалости. Например, с ним был такой случай: будучи гимназистом 3 или 4 класса, он завел себе ружье, а сестра достала ему собаку, и Желваков очень любил ходить на охоту, хотя дичи почти никогда домой не приносил; собака к нему очень привязалась, бегала за ним повсюду. Но собака была совершенно недисциплинированна и съедала все, что плохо лежит, а еще чаще опрокидывала, ломала; кроме того, она была самка, и к ней прибегали собаки со всего околотка, и собака сделалась совершенно невозможной для общежития. Мать Николая долго это терпела, но, наконец, попросила Николая убрать собаку. Желваков сделал несколько попыток отделаться от собаки: дарил ее разным лицам, ее отвозили на далекое расстояние, но собака возвращалась и делалась еще более озорной, еще более невозможной. Тогда Желваков взял ружье, свистнул собаку и отправился в лес, причем на лице его была и боль, и решительность. Домой вернулся он страшно грустный, с заплаканными глазами и со слезами на глазах рассказал своей сестре, что собаку он убил, но не сразу, она приползла к нему, и на глазах у нее были слезы.
В это время Желваков учился уже в вятской гимназии, куда поступил после окончания приходского училища. В гимназии около него образовался небольшой кружок гимназистов, которые в младших классах занимались всевозможными играми и спортом, ставили в сарае спектакли и т. д., а начиная с 3—4 класса начали больше заниматься самообразованием, особенно, когда Желваков был в 5 и 6 классах гимназии. Часто собирались у Желвакова гимназисты; велись самые горячие споры; сначала споры велись на литературные темы, а потом чаще и чаще на политические. С 5 класса гимназии Желваков уже давал уроки, репетировал и в то же время без учителей занимался изучением английского языка (немецкий и французский он учил в гимназии); кроме того, он увлекался естественной историей, собирал коллекции растений, камней, насекомых, производил химические опыты, после которых иногда приходилось проветривать весь дом. Иногда приходили к нему ссыльные.
В это же время Желваков осенью сильно простудил на охоте ноги и пролежал в постели несколько месяцев, причем врач, лечивший Николая, потерял уже надежду на излечение и думал, что Желваков не сможет более ходить на своих ногах, но все кончилось благополучно, хотя в первое время после болезни Николай Желваков ходил, опираясь на палку. Болезнь не помешала ему весной сдать хорошо экзамены и перейти в следующий класс; но болезнь сделала его еще более серьезным, вдумчивым. Летом Желваков с другими товарищами часто отправлялись в ближайшие деревни, где со знакомыми деревенскими парнями вели беседы на разные темы.
Учился Желваков хорошо, но, окончивши 6 классов гимназии, он заявил родителям, что больше учиться в гимназии не будет, так как быть в 7 и 8 классах и учить то, что там преподают, он считает напрасной тратой времени. Отец и мать были страшно этим огорчены, но ни уговоры отца, ни слезы матери ничему не помогли. Желваков мягко, но в то же время решительно настоял на своем. Служить на государственной службе он категорически отказался, а завел себе переплетные станки и стал переплетать книги, а потом завел токарный станок, на котором при содействии знакомого столяра быстро научился работать. Все свободное время он посвящал чтению книг и изучению языков. Часто читал вслух своим братьям и сестрам Гоголя и других авторов; репетировал с ними уроки и иногда, чтобы занять их, играл с ними. Братья и сестры его очень любили. С родителями, особенно с матерью, у него были самые задушевные отношения. С отцом он часто беседовал на разные темы, в том числе на политические и социальные.
Через год или два после выхода из гимназии, Желваков ранней весной выехал из Вятки вместе со взрослым незнакомым для семьи мужчиной, причем всем говорил, что едет за сто верст в село подготовлять детей священника в гимназию, между тем, по словам некоторых его близких, он целое лето пробурлачил на Волге (насколько это верно — проверить теперь нельзя). Осенью он вернулся домой крепким, возмужалым, причем рассказывал, как он работал в поле с крестьянами, как таскал мешки на мельницу.
Вскоре после этого он отправился в Петербург для поступления вольнослушателем в университет.
В Петербурге Желваков зарабатывал сам деньги; отец помогал только вначале, пока сын не написал, что посылать больше не надо. Домой Желваков писал часто, причем ото всех его писем веяло той задушевностью, которой он всегда отличался до самой смерти. В письмах он никого не забывал из своих близких, и его письма были праздником и перечитывались по несколько раз. Так продолжалось до того последнего письма, в котором он написал, что за ним следят, и что больше он писать не будет. Это письмо его родных страшно поразило, ибо в нем он просил старших братьев и сестер заботиться о младших и в конце письма несколько раз написал; «прощайте, прощай, прощайте», т. е. письмо походило на завещание. Мать очень плакала, отец ходил угрюмый, а дети все притихли, и им было строго-настрого наказано об этом письме никому не говорить.
Больше писем родные от Николая Желвакова не получали. О казни своего сына родители Николая Желвакова узнали как раз в то время, когда у них были по какому-то семейному торжеству гости. Почтальон принес газету. Кто-то стал ее читать. Газета пошла по рукам. Все затихли. «В чем дело?» — спросил отец. Ему молча передали газету. Он стал читать; мать, видя по лицу, что отец прочитал что-то ужасное, взяла газету; скоро послышался крик, и мать упала в обморок. Гости, кроме самых близких, разбежались, а мать едва привели в себя. На следующий день была полиция, показали отцу карточку Николая. «Ваш сын?» — «Да». Долго рылись и потом ушли. С этого времени родители Николая Желвакова подверглись опале. Отец до конца своей службы замерз на той должности, на которой он был; все ходатайства начальства о его повышении оставались без последствий. Братья и сестры Желвакова, которые учились в местных гимназиях, были под разными предлогами уволены из гимназии, и только младшему Ивану удалось попасть в открытое земством реальное училище.
Примечание автора
[*] Год указан по словам брата Николая, Семена; мне же кажется, что он родился в 1860 или 1861 г.
Опубликовано в журнале «Каторга и ссылка», 1929, № 8 (57).