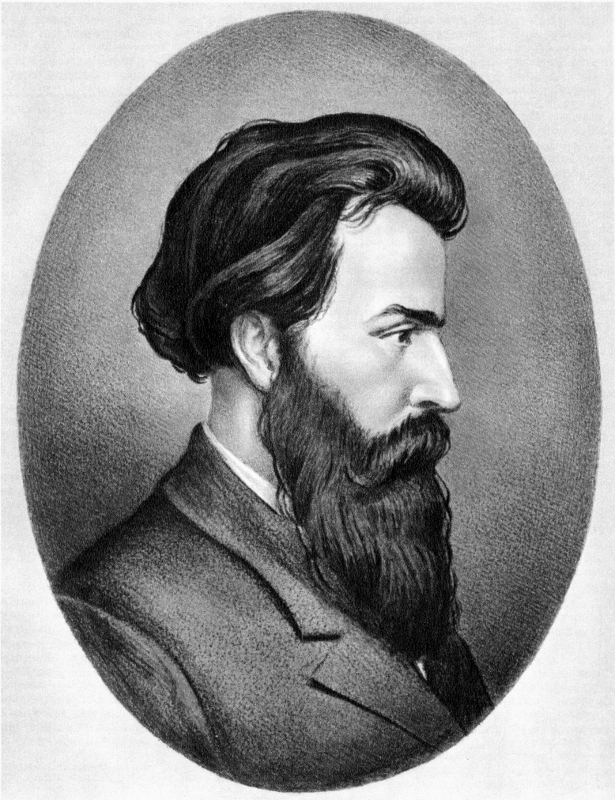
Первоприсутствующий — сенатор Фукс.
Прокурор — Н. Муравьев.
Второй суд над народовольцами — процесс Желябова, Перовской и других, дело 1 марта 1881 года — был самым ярким и полным выявлением характера партии «Народная воля». Он составляет счастливое исключение из других процессов тем, что уже более двадцати лет, как напечатан стенографический отчет этого процесса, хотя и с некоторыми пропусками в объяснениях подсудимых.
Дело 1 марта 1881 года было восьмым предприятием партии (если подкоп на Малой Садовой и нападение с метательными снарядами считать отдельно) против Александра II: три приготовления к покушению осенью 1879 года; в 1880 году — 5 февраля взрыв в Зимнем дворце, весною приготовления к покушению в Одессе на Итальянской улице, летом — в Петербурге под каменным мостом; в январе и феврале 1881 года велся подкоп на Малой Садовой, наконец, 1 марта царь смертельно ранен на Екатерининском канале.
Прежде всего кратко восстановим в памяти само событие 1 марта.
В два часа дня окончился смотр в Михайловском манеже, и на обратном пути царь заехал на завтрак к великой княгине Екатерине Михайловне. Пробыв у нее с полчаса, он направился в Зимний дворец по Екатерининскому каналу в сопровождении конного конвоя из шести казаков и следовавших сзади, в санях, друг за другом — полицмейстера полковника Дворжицкого, жандармского капитана Коха и ротмистра Кулебякина[I]. Недалеко от угла Инженерной улицы под каретою внезапно раздался взрыв, похожий на пушечный выстрел. Метательный снаряд был брошен Рысаковым под проезжавшую карету царя, левая задняя часть которой была повреждена взрывом. Царь вышел из кареты, осмотрел место взрыва, подошел к задержанному уже Рысакову и спросил: «Это тот, который бросил?» Получив утвердительный ответ, пошел обратно, удаляясь от Рысакова, по тротуару канала, окруженный свитой и военными. Не успел царь сделать несколько шагов, как у самых его ног раздался новый оглушительный взрыв. Когда мгла от взрыва рассеялась, среди раненых были и царь, и метальщик. По официальным данным, Александр II умер во дворце в 3 ч. 35 м., а по неофициальным — он умер еще на месте взрыва. Защитник С. Л. Перовской Е. И. Кедрин рассказывал следующее: «Могу вам сообщить, что бывший полицмейстер Дворжицкий, следовавший 1 марта за каретою государя, говорил мне через год, что император Александр II, вопреки всем свидетельским показаниям, скончался моментально там же на набережной Екатерининского канала, и, следовательно, все показания, будто государь произнес: «холодно, холодно... скорее во дворец», были вымышленными».
Шагах в трех-четырех от Александра II лежал смертельно раненый бросивший второй снаряд Игнатий Иоакимович Гриневицкий, настоящая фамилия которого была установлена только после процесса. Вместе с другими ранеными его перенесли в ближайший придворный госпиталь. Все время он был в бессознательном состоянии и только за несколько минут до смерти пришел в себя. Стороживший его следователь спросил его: «Как ваше имя?» — «Не знаю», был ответ.
Игнатий Иоакимович Гриневицкий родился в 1856 году в Гродненской губернии, Вельском уезде, в имении «Гриневичи», в католической семье мелкого землевладельца. Учился в уездном училище г. Вельска, а потом в реальной гимназии в Белостоке, где и окончил курс в 1875 году. В Питере поступил в Технологический институт. «Принимал деятельное участие как в польских, так и в русских кружках и с одинаковой готовностью во всех формах проявления революционной деятельности: организовывал кружки, собирал деньги для заключенных, занимался паспортным делом, вел пропаганду среди рабочих». «В 1879 году присоединился к кружку, который имел целью создание боевых дружин среди народа, которые служили бы операционными базисами для революционных восстаний; он поехал в деревню для образования такой дружины, но, убедившись в невыполнимости подобного плана, возвратился в Петербург» («Большая энциклопедия» под редакцией Южакова, том 21-ый).
По возвращении в Питер он примкнул к партии «Народная воля», работал среди молодежи и рабочих, был членом боевой рабочей дружины; когда осенью 1880 года началась слежка за выездами царя, он вошел в наблюдательный отряд, а потому и в группу бомбометателей. Накануне 1 марта он написал завещание, из которого приводим следующие выдержки:
«...Александр II должен умереть. Дни его сочтены. Мне или другому кому придется нанести страшный последний удар, который гулко раздастся по всей России и эхом откликнется в отдаленнейших уголках ее, — это покажет недалекое будущее. Он умер, а в месте с ним умрем и мы, его враги, его убийцы.
Это необходимо для дела свободы, так как тем самым значительно пошатнется то, что хитрые люди зовут правлением монархическим, неограниченным, а мы — деспотизмом...
Что будет дальше? Много ли еще жертв потребует наша несчастная, но дорогая родина от своих сынов для своего освобождения? Я боюсь... меня, обреченного, стоящего одной ногой в могиле, пугает мысль, что впереди много еще дорогих жертв унесет борьба, еще больше последняя смертельная схватка с деспотизмом, которая, я убежден в том, не особенно далека, и которая зальет кровью поля и нивы нашей родины, так как — увы! — история показывает, что роскошное дерево свободы требует человеческих жертв.
Мне не придется участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества, но считаю, что своею смертью сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может.
Дело революционной партии — зажечь скопившийся уже горючий материал, бросить искру в порох и затем принять все меры к тому, чтобы возникшее движение кончилось победой, а не повальным избиением лучших людей страны»... (фев. 1881 г.)
(Из завещания Гриневицкого. «Былое». 1906. I).
Привлечение к делу о цареубийстве всех обвиняемых основывалось на предательских показаниях Рысакова, Николая Ивановича, студента Горного института, второго курса, из мещан г. Тихвина, Новгородской губернии. Свое предательство он сначала старался прикрыть путаными, сумбурными объяснениями, что он социалист, террористической борьбы не признает и борется с нею (путем, очевидно, предательства!), а принимал участие в убийстве царя только потому, что не верил в возможность при Александре II сколько-нибудь продуктивной социалистической деятельности и что будто бы причина этого была только в одном Александре II.
Познакомившись осенью 1880 года с Желябовым, он поддался влиянию его страстной революционной натуры, подпал всецело под обаяние его личности и сам захотел быть активным. Желябов ввел его в группу для занятий с рабочими. На этой работе Рысаков познакомился с Перовской, Гриневицким, которого он знал под кличкою «Котик», и другими и все более и более революционизировался. Не удовлетворяясь занятиями с рабочими, он стремился к террористической деятельности, был введен в боевую рабочую дружину, а узнав о приготовлениях к покушению на царя, выразил желание участвовать в нем и настойчиво добивался этого. Сначала он был введен в группу лиц, следивших за выездом Александра II, чтоб установить время выездов и путь царя, а потом выразил желание быть и одним из бомбометателей.
Бросить бомбу — не дрогнула рука Рысакова, и еще некоторое время он был в боевом настроении. Услышав слова Александра II: «Слава богу, я уцелел, но вот!» (показывая на раненого казака и мальчика), Рысаков, если верить показанию одного свидетеля на суде, сказал: «Еще слава ли богу!» Но будучи схвачен, избит едва не растерзавшею его толпою шпионов, городовых и дворников, очутившись в руках врагов — следственных властей, обладавших искусством вполне покорять слабовольных, неглубоких, не закалившихся в борьбе, запугивая их скорой, неизбежной казнью и всячески обольщая обещаниями, в случае откровенности, избавиться от нее, — он не устоял. Тем более, что в данном случае было пущено в ход все искусство, изобретательность в действии на чувство, на нервы, на затемнение разума, путем бесконечно длившихся, днем и ночью, беспрестанных допросов юноши девятнадцати лет, обвиняющегося в цареубийстве[1]). Власти увидели, что имеют дело с подходящим для них материалом, и Рысаков на первых же порах был в полном их распоряжении. Постепенно он выдал решительно всё и всех, кого знал, надеясь путем гнуснейшего предательства купить себе жизнь и избавиться от нависшей над ним веревки.
На первом же допросе Рысаков сообщил о своем знакомстве с Желябовым, которого знал под именем «Захара», рассказал о его роли в подготовке покушения и описал его приметы.
Прежде еще было известно из показаний Гольденберга[II], арестованного 14 ноября 1879 года, о роли Желябова в партии «Народная воля», об организации им покушения близ г. Александровска на Лозово-Севастопольской железной дороге 18 ноября 1879 года, что подкреплялось и предательскими показаниями Ивана Окладского[III], осужденного по делу 16-ти народовольцев в октябре 1880 года. На основании всех этих сведений нетрудно было признать в «Захаре» Желябова, который в два часа ночи с 1 на 2 марта был вызван на очную ставку с Рысаковым. Они встретились как знакомые. В тот же раз был предъявлен Желябову труп Гриневицкого, бросившего второй снаряд, смертельно ранивший царя и самого И. И. Гриневицкого, умершего через восемь часов в придворном Конюшенном госпитале. Желябов от дачи каких-либо показаний по предъявленному ему мертвому телу отказался. Он обратился к прокурору палаты, присутствовавшему на допросе, с вопросом: что случилось, что его разбудили для допроса в два часа ночи? Когда ему объявили, в чем дело, Желябов выразил радость и заявил: «Личное мое участие физическое не было лишь по причине ареста; нравственное участие — полное».
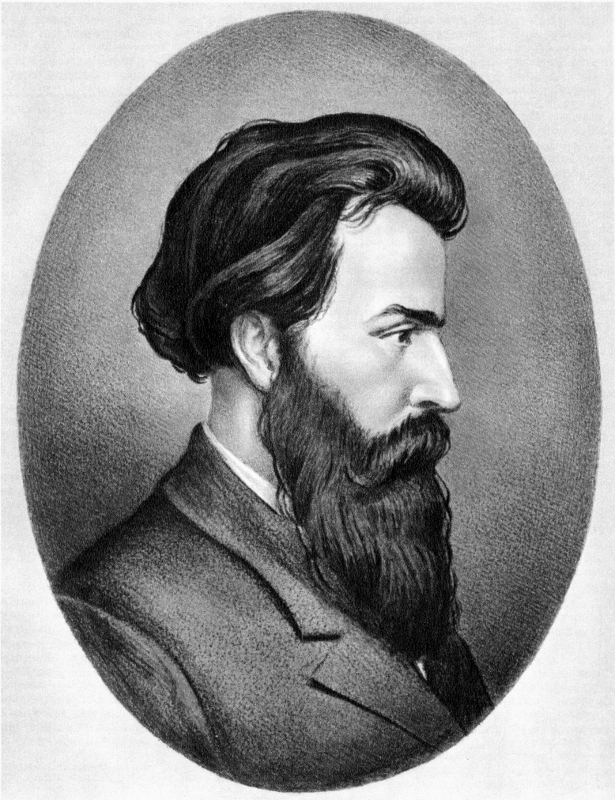 |
«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы, если Рысакова намерены казнить, — было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения.
Прошу дать ход моему заявлению.
Андрей Желябов.
2 марта 1881 г. Д. Пр. Зак.
P. S. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две.
Андрей Желябов».
Совершилось историческое событие громадной важности, которое требовало всестороннего освещения. На суде должно было быть продолжение этого дела, и скамья подсудимых должна была служить трибуною. Что же это был бы за суд по делу 1 марта с одним Рысаковым, уже «растерявшимся», чего, вероятно, не мог не заметить Желябов на ночном допросе, хотя в то время он еще не знал о размерах предательства Рысакова. Вот что сам Желябов показал о Рысакове на предварительном следствии 2 марта: «Познакомился с Р. вследствие выраженного им желания приступить к занятиям с рабочими; сблизившись с ним на этом деле и определив в нем способность к деятельности боевой, террористической, я повел с Р. разговор о том, что рабочее дело станет прочно, лишь будучи охраняемо от шпионов через устранение последних. Оказалось, что Р. сам самостоятельно дошел до взглядов партии на этот предмет, признавая, что для таких дел нужна специальная боевая организация; оставалось предложить ему вступление в боевую рабочую дружину, что и было принято Рысаковым. В декабре Р. был членом рабочей организации, а также “боевой рабочей дружины”.
Данная дружина, входя в состав боевых сил Исполнительного Комитета, имела целью 1) устранение шпионов, действующих в рабочей среде; 2) привлечение лучших рабочих к участию в подобных делах; 3) собирание определившихся лиц в группы для самостоятельного исполнения террористических предприятий, намеченных рабочей организацией; 4) группы эти должны быть готовы принять на себя инициативу инсуррекционного движения, которое партия считает почти неизбежной переходной ступенью в деятельности, подготовительной ко всеобщей революции; 5) наконец, боевая дружина служит школой для выработки характеров, способных к самопожертвованию в интересах общего дела.
Когда нападение на Александра II было поставлено Исполнительным Комитетом ближайшей практической задачей, приблизительно в конце января был сделан вызов добровольцев из боевых комитетских дружин. В числе прочих рвался на это дело и Рысаков» (Протокол № 15 от 2 марта. «1-е марта 1881 года по неизданным материалам»).
Ни у Желябова, ни у Перовской не было оснований не доверять искренности Рысакова и отказать ему, и он был зачислен в группу метальщиков, тем более, что предполагалось, что он останется в резерве и что не придется ему действовать. Но вышло не так, как предполагали: царь не поехал по М. Садовой улице, где была приготовлена для него мина в подкопе, благодаря чему становилось неизбежным действие метательными снарядами, которое должно было быть перенесено на Екатерининский канал. Сам Рысаков случайно оказался на первом месте вместо последнего, и пришлось ему первому бросить бомбу в карету проезжавшего царя.
По указанию Рысакова, в ночь со 2 на 3 была обнаружена на Тележной ул., д. № 5, квартира, где собирались метальщики для совещаний, указаний, инструкций и где 1 марта получили они метательные снаряды. Хозяин квартиры, Николай Алексеевич Саблин[IV], живший по паспорту Фесенко-Новроцкого, оказал вооруженное сопротивление, отстреливаясь от ломившихся в дверь жандармов и полиции, а последний выстрел сделал себе в висок и умер. На квартире были взяты два неиспользованных метательных снаряда, прокламации. Арестована хозяйка квартиры Геся Мировна Гельфман.
На квартире была оставлена засада. 3 марта в 11 часов утра попал в нее Тимофей Михайлов, оказавший при аресте вооруженное сопротивление, контузивший помощника пристава, ранивший городового и шпика. Рысаков признал его за человека, участвовавшего в совещаниях о задуманном покушении, бывшего накануне 1 марта за городом при пробе запала метательных снарядов и утром 1 марта бывшего одним из четырех метальщиков, получивших снаряды на Тележной улице.
Тимофей Михайлов отрицал свое участие в деле 1 марта, но признал свою принадлежность к боевой рабочей дружине[V].
9 марта следствие было закончено, и на суд должны были предстать Желябов, Гельфман, Т. Михайлов и Рысаков, но 10 марта, в пять часов вечера, была арестована Софья Львовна Перовская и признана дворниками дома № 18 по Первой роте Измайловского полка; Перовская жила вместе с Желябовым в квартире № 23. (Думаю, что этот арест на улице произошел не без участия предателя Окладского, начавшего выдавать все после приговора к смертной казни 30 октбря 1880 года. — А. Я.)
Следственной власти раньше уже было известно из показаний Гольденберга участие Перовской в покушении на царя 19 ноября 1879 года под Москвою. Она была предъявлена Рысакову, который признал в ней главную руководительницу дела 1 марта: ею были принесены на Тележную улицу, в квартиру Саблина и Геси Гельфман, два разрывных снаряда; она объясняла план покушения; дала подробные инструкции каждому, что он должен делать и где находиться на случай проезда царя по Малой Садовой (в этом случае Рысакову указано было место около памятника Екатерины II); в случае, если царь поедет в манеж не по Малой Садовой, а иным путем, то по условленному с нею знаку (вынет носовой платок и высморкается) метальщики должны пойти на Екатерининский канал (известно было, что после манежа царь заезжал завтракать к великой княгине Екатерине Михайловне) и занять там определенные места. Сама Перовская должна была перейти на другую сторону канала и, стоя у Конюшенного здания, против Инженерной улицы, наблюдать за выездом царя из дворца великой княгини, чтоб платком дать знать метальщикам и наблюдать за их действиями.
Для большей точности в указании мест Перовская утром на квартире Саблина и Геси Гельфман начертила план, который был взят при обыске на Тележной улице.
Перовская признала свое участие в деле 1 марта и в покушении 19 ноября 1879 года под Москвою. Относительно мотивов, под влиянием которых партия перешла к террористической деятельности, Перовская в показании 11 марта говорила следующее: «Стремясь к поднятию экономического благосостояния народа и уровня его нравственного и умственного развития, мы видели первый шаг к этому в пробуждении в среде народа общественной жизни и сознания своих гражданских прав. Ради этого мы стали селиться в народе для пропаганды, для пробуждения его умственного сознания. На это правительство ответило страшными репрессиями и рядом мер, делавших почти невозможной деятельность в народе. Таким образом, правительство само заставило партию обратить преимущественное внимание на наши политические формы как на главное препятствие народного развития («1 марта 1881 года по неизданным материалам»).
Как выше было сказано, Рысаков сообщил, что с осени 1880 года за выездами царя велись наблюдения, назвал лиц, делавших эти наблюдения, и сказал, что результаты наблюдений сообщались Перовской.
Благодаря показаниям Рысакова, усиленные розыски крамолы были направлены в среду учащейся молодежи, рабочих и военных. На одном из допросов он показал, что слышал от Желябова об успехах социалистической пропаганды не только в среде рабочих и учащейся молодежи, но и между военными. Военная группа организована лучше рабочих кружков и снабжает другие революционные группы материальными средствами. Деятелями ее являются вольноопределяющиеся, часто находящиеся под покровительством офицеров-социалистов, а также воспитанники военно-учебных заведений. Военная среда дает людей, пригодных и для агитации в деревне. Лучшим подспорьем для агитаторов представляются увольняемые в отставку и отпуск нижние чины из участвовавших в турецкой кампании, так как крупные злоупотребления начальствующих лиц и невнимательное отношение к солдатам восстановили последних против власти.
В том же показании Рысаков упоминает о попытках социалистов «воспользоваться недовольством государственною властью в среде старообрядцев». («1 марта 1881 года по неизданным документам»).
Дознания о революционной деятельности среди рабочих, учащейся молодежи и военных велись отдельно от дела 1 марта.
Вторично предварительное следствие по делу 1 марта было закончено, составлен обвинительный акт, и дело было назначено к слушанию 26 марта. Но 17 марта был арестован Кибальчич, много раз упоминавшийся Рысаковым техник. Снова спешно началось следствие о нем. Рысаков на допросах рассказал уже, что техник знакомил метальщиков с устройством метательных снарядов, что ездил с ними за город пробовать запал снаряда, что он же 1 марта принес на Тележную улицу два снаряда.
Кибальчич признал, что он один из техников Исполнительного Комитета, что приготовлял снаряды к 1 марта, что участвовал в приготовлении динамита для всех покушений на Александра II.
Следствие о нем было закончено, и 21 марта составлен дополнительный обвинительный акт.
Суд решено не откладывать и слушание дела начать 26 марта, как было уже назначено раньше.
Накануне суда А. И. Желябов сделал следующее заявление в особое присутствие правительствующего сената первоприсутствующему:
«Принимая во внимание, во-первых, что действия наши, отданные царским указом на рассмотрение особого присутствия сената, направлены исключительно против правительства и лишь ему одному в ущерб; что правительство, как сторона пострадавшая, должно быть признано заинтересованной в этом деле стороной и не может быть судьей в своем собственном деле; что особое присутствие, как состоящее из правительственных чиновников, обязано действовать в интересах своего правительства, руководясь при этом не указаниями совести, а правительственными распоряжениями, произвольно именуемыми законами, — дело наше неподсудно особому присутствию сената.
Во-вторых, действия наши должны быть рассматриваемы как одно из проявлений той открытой, всеми признанной борьбы, которую русская социально-революционная партия много лет ведет за права народа и права человека против русского правительства, насильственно завладевшего властью и насильственно удерживающего ее в своих руках по сей день. Единственным судьей в деле этой борьбы между социально-революционной партией и правительством может быть лишь весь русский народ через непосредственное голосование или, что ближе, в лице своих законных представителей в учредительное собрание, правильно избранное; и в-третьих, так как эта форма суда (учредительное собрание) в отношении нас лично неосуществима, так как суд присяжных в значительной степени представляет собою общественную совесть и не связан в действиях своих присягой на верную службу одной из заинтересованных в деле сторон, — на основаниях, выше изложенных, я заявляю о неподсудности нашего дела особому присутствию правительствующего сената и требую суда присяжных в глубокой уверенности, что суд общественной совести не только вынесет нам оправдательный приговор, как Вере Засулич, но и выразит нам признательность отечества за деятельность, особенно полезную. 1881 года, 25 марта. Андрей Желябов. Петропавловская крепость». («1 марта 1881 года по неизданным материалам»).
Суд[2] особого присутствия сената над шестью обвиняемыми по делу 1 марта 1881 года — Андреем Ивановичем Желябовым, Софьей Львовной Перовской, Николаем Ивановичем Кибальчичем, Гесею Мировной Гельфман, Тимофеем Михайловичем Михайловым и Николаем Ивановичем Рысаковым — начался 26 марта, в 11 часов утра, под председательством сенатора Фукса[VI].
 |
Рис. П. Пясецкого |
На предложенные первоприсутствующим вопросы подсудимые отвечали:
Рысаков: «Мещанин города Тихвина, Николай Иванович Рысаков, 19 лет; исповедания православного; проживал в последнее время в Петербурге на Песках и на Петербургской стороне».
Михайлов: «Крестьянин Смоленской губернии, Сычёвского уезда, Ивановской волости, деревни Гавриловка, Тимофей Михайлов, 21 года, православный; жил на Песках; занимался котельными работами».
Гельфман: «Мещанка Геся Мировна Гельфман, 26 лет; проживала на Тележной улице; занималась революционными делами».
Кибальчич: «Сын священника Николай Кибальчич, 27 лет, жил по Лиговке, № 83; занимался отчасти литературой».
Перовская: «Дворянка Софья Перовская, 27 лет; жила по Первой роте Измайловского полка[VII]; занималась революционными делами».
Желябов: «Крестьянин Таврической губернии, Феодосийского уезда, села Николаевки, Андрей Иванов Желябов, 30 лет; крещен в православие, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть и что истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых, и если нужно, то за них и пострадать: такова моя вера. В последнее время я жил в Первой роте Измайловского полка, и вообще жил там, где требовало дело, указанное мне Исполнительным Комитетом. Служил я делу освобождения народа. Это мое единственное занятие, которому я много лет служу всем моим существом».
I. Все обвинялись в принадлежности к тайному сообществу, имеющему целью ниспровергнуть посредством насильственного переворота существующий государственный и общественный строй, «при чем преступная деятельность этого сообщества проявилась в ряде посягательств на жизнь священной особы его императорского величества, убийств и покушений на убийство должностных лиц и вооруженных сопротивлений властям».
II. Все принимали участие в деле 1 марта. Кроме того,
III. Ан. Желябов обвинялся в покушении на царя под Александровском, по Лозово-Севастопольской железной дороге, 18 ноября 1879 года;
IV. С. Перовская обвинялась в участии в покушении на Александра II под Москвой 19 ноября 1879 года;
V. Тимофей Михайлов — в вооруженном сопротивлении при аресте, при чем выпустил шесть пуль, опасно ранил городового и контузил помощника пристава;
VI. Н. Кибальчич принимал участие в покушении 18 ноября посредством доставления Желябову спирали Румкорфа, необходимой для совершения взрыва; принимал участие в приготовлении покушения на Одесской железной дороге в том же 1879 году посредством хранения у себя на квартире всех нужных предметов для совершения взрыва и, наконец, изобрел, наготовил и приспособил четыре метательных снаряда, из которых одним было произведено смертельное поранение, от которого и умер Александр II. На вопрос первоприсутствующего, признает ли себя виновным, Рысаков отвечал: «Виновным себя в принадлежности к той социально-революционной партии, признаки которой описаны в предложенном мне вопросе, я отрицаю. В преступлении 1 марта я признаю себя виновным».
Первоприсутствующий предложил Рысакову разъяснить суду то различие, которое он делает между той партией, к которой считает себя принадлежащим, и той, принадлежность к которой отрицает.
Рысаков: «Я отрицаю вполне свою принадлежность к партии “Народная воля” и полагаю, что к ней может принадлежать только тот, кто имеет за собою какое-либо революционное прошлое; за мною же этого революционного прошлого до настоящего времени не имелось. Я, как социалист, имею отличное от партии “Народная воля” воззрение. По моему взгляду, чистый социалист-революционер должен воздерживаться от революционной борьбы, и я скорее принадлежу к партии “Черный передел”»[VIII]. Говорил Рысаков крайне тихо и невнятно, но подтвердил все свои предательские показания относительно всех подсудимых.
Тимофей Михайлов признал принадлежность свою к социал-революционной партии, к террористическому ее направлению, что был членом боевой рабочей дружины, что оказал вооруженное сопротивление при аресте, «чтобы не отдавать себя даром». Но отрицал свое участие в деле 1 марта. «В этом я не признаю себя виновным; потому признаю все показания Рысакова ложными».
Михайлов подробно рассказал о своей жизни в деревне, о жизни крестьян, об их потребностях и расходах (в отчете нет подлинного рассказа). Председатель несколько раз прерывал Михайлова замечаниями, что это к делу не относится.
На Вопрос первоприсутствующего: «А с тех пор, как вы перестали работать, чем жили?»
Михайлов: «Я жил без работы только один месяц и получал помощь от Желябова. Я видел, что труд рабочего поглощается капиталистом, который эксплоатирует рабочего человека. Я не знал, как выйти из этого затруднительного положения, я думал, что неужели рабочий человек должен всегда существовать так, как существует теперь. Когда я познакомился с социальным учением, я принял его сторону. Что меня побудило быть террористом, то это то, что когда я развивал своих рабочих товарищей, предлагал делать забастовки на заводах, группировал их в артели для того, чтобы они работали не на капиталистов, за мной поставили шпионов. Вот тогда я отказался от заводской работы и заявил Желябову, что я буду террористом».
Сенатор Писарев: «Вы сказали, что принадлежите к террористическому отделу революционной партии. Какие средства были этого террористического отдела?»
Михайлов: «Средствами были убиение шпионов и избиение нелюбимых рабочими мастеров, потому что я находил, что эти мастера предают своих товарищей, как Иуда предал спасителя, и которые эксплоатируют рабочего человека больше всего».
Сенатор Писарев: «Таким образом, вы не имели в виду ни правительства, ни власти, вы только желали защитить рабочих?»
Михайлов: «Да, защитить рабочих. Я желал сгруппировать рабочих в артели и ассоциации».
На вопрос первоприсутствующего о виновности Гельфман отвечала: «Я признаю, что по своим убеждениям принадлежу к социально-революционной партии, принимала участие в делах этой партии и разделяю программу партии “Народная воля”, была хозяйкой конспиративной квартиры, на которой происходили собрания, но в этих собраниях я не участвовала и не принимала активного участия в деле 1 марта. При этом считаю долгом заявить, что у меня на квартире как на собраниях, бывших до 1 марта, так и утром 1 марта Тимофей Михайлов не был».
На вопрос о виновности Кибальчич отвечал: «Прежде чем отвечать на вопрос, позволю себе определить те главные задачи, которые ставит себе та партия, к которой я себя причисляю».
Первоприсутствующий: «Для суда представляют действительный интерес только ваши убеждения и задачи».
 |
Первоприсутствующий: «Приготовляя динамит и снаряды, знали ли вы, что они предназначены для этой цели?»
Кибальчич: «Да, конечно, это не могло не быть мне известно. Я знал и не мог не знать. Я должен повторить еще то, что сказал относительно своего участия в мине на Малой Садовой. Я не принимал там участия в подкопе, и вся моя задача ограничивалась научными техническими советами и указаниями, и затем устройством запала. Так, я должен был решить вопрос, какое количество динамита в мине на Малой Садовой должно быть употреблено для того, чтобы, во-первых, достигнуть предположенной цели, а во-вторых, не принести никакого вреда частным лицам, которые находились бы на тротуаре, а тем более в домах. Я обсуждал этот вопрос и решил, что употребленное количество динамита было, так сказать, минимальным, которое необходимо для того, чтобы достигнуть цели и не принести ущерба частным лицам. Итак, относительно устройства мины, найма помещения, назначенных туда людей и тому подобного, — в этом я не принимал участия. Но за несколько дней я узнал, какой способ предполагается и где, узнал также и время — 1 марта. Я действительно делал указания и действительно был на опыте, но считаю нужным заявить, что той личности, которая называется Тимофеем Михайловым, не было ни на опытах, ни на чтении этих лекций. Вообще я его ни разу не видал в квартире Гельфман».
На вопрос о виновности Перовская ответила: «Я признаю себя членом партии “Народная воля” и агентом Исполнительного Комитета. Относительно взглядов, которых придерживается партия “Народная воля” и которых придерживаюсь и я, в дополнение к словам моего товарища[3], я замечу только одно: партия “Народная воля” отнюдь не считает возможным навязывать какие бы то ни было учреждения или общественные формы народу и обществу и полагает, что народ и общество, рано или поздно, примут эти взгляды и осуществят их в жизнь. Что касается фактической стороны, то я, действительно, признаю, что по поручению Исполнительного Комитетa, как его агент, принимала участие в покушении под Москвою 19 ноября 1879 года и в покушении 1 марта нынешнего года. Относительно участвующих лиц в последнем событии я могу заявить одно: Гельфман, как хозяйка конспиративной квартиры, как член партии “Народная воля”, вовсе не примыкала к террористической деятельности партии. Она занималась только распространением ее программы. Поэтому она не участвовала в совещаниях, которые собирались для террористических попыток, точно так же вообще не знала о ходе террористической деятельности. Относительно подсудимого Михайлова я должна сказать, что он точно так же не принимал участия в террористической деятельности партии, не готовился в метальщики и не был 1 марта на квартире, где собственно решался план действий. Следовательно, в этом факте он не принимал никакого участия».
Желябов на предложенные вопросы отвечает: «Я признаю себя членом партии “Народная воля”, и эта принадлежность является следствием моих убеждений. В организаторском же отношении я состою агентом Исполнительного Комитета. Так как убеждения партии, ее цели и средства достаточно подробно изложены моими товарищами, Кибальчичем и Перовской, то я остановлюсь главным образом на второй половине моих объяснений — на организации. Я долго был в народе, работал мирным путем, но вынужден был оставить эту деятельность по той причине, на которую указал подсудимый Кибальчич. Оставляя деревню, я понимал, что главный враг партии народолюбцев-социалистов — власти».
Первоприсутствующий его останавливает, заявляя, что он не может допустить выражений, «полных неуважения к существующему порядку управления и к власти, законом установленной. Вы можете высказать ваши убеждения, не согласные с законом, но высказывайте их в такой форме, которая дала бы возможность вас выслушать».
Желябов: «Я это признаю. Как человек, из народа вышедший, для народа работающий, я так понимал выгоду от политической борьбы».
Первоприсутствующий опять прерывает Желябова и говорит, что суду не нужно знать теорий, а только личное его отношение к партии, к которой принадлежит. «Вы, например, говоря об организации, совершенно правильно заметили, что для определения роли каждого из обвиняемых может иметь значение разъяснение организации, и вот в этих пределах суд выслушает ваше объяснение».
Желябов: «Совершенно верно: я мог бы держаться в таких рамках и к ним возвращусь». Затем подсудимый вошел в подробные объяснения (говорится в отчете, но подлинных объяснений не приводится) существующей будто бы организации тайного общества, основанной на подчинении младших кружков старшим, сходящимся в центральный. После чего Желябов продолжал: «Перехожу к моей роли в настоящем деле. Я несколько раз участвовал в подобных предприятиях и заслужил доверие центра, Исполнительного Комитета, и вот на этом основании мне в этом предприятии была отведена роль организатора одной из частей предприятия. Предприятие это распадается на подкоп и на нападение с метательными снарядами, и вот нападение с метательными снарядами Исполнительным Комитетом поручено было организовать мне, при чем Исполнительный Комитет указал мне, что добровольцев, изъявивших согласие идти на самопожертвование, лишь бы цель была достигнута, было всего 47 человек. Из них девятнадцать, обусловливавших свое участие вместе с опытным в таком деле человеком, остальные же выразили безусловное согласие. Из этой категории лиц мне было предоставлено выбрать себе сотоварищей и действовать с ними метательными снарядами, чем я и занялся, руководствуясь соображениями не наибольшей их пригодности, как говорится в обвинительном акте, — я к этому еще возвращусь, — а другими соображениями».
Первоприсутствующий прерывает Желябова и говорит, что теперь не должно делать объяснений по существу обвинительного акта, а «на это будет целое судебное следствие».
Далее Желябов отрицает участие Т. Михайлова в группе метальщиков и говорит, что Рысаков не знал о подкопе на Малой Садовой и не мог знать, так как подкоп велся, в интересах осторожности, совершенно отдельно от нападения с метательными снарядами, и из лиц, ведших подкоп, никто не знал Рысакова. «Оставляя на мою ответственность привлечение того или другого деятеля в качестве метальщика, они бы, конечно, никогда не допустили, чтобы неизвестный человек принял участие в подкопе. Если это можно сказать относительно Рысакова, то же самое относится, и еще с большим основанием, к Т. Михайлову, который о подкопе не мог знать ровно ничего: это было бы младенчеством в революционном ведении дела, а мы уже кое-что пережили. Для того, чтоб мой ответ на обвинение, изложенное в обвинительном акте, был определеннее, я теперь возвращусь к самой формулировке обвинительного акта. Я не признаю себя виновным в принадлежности к тайному сообществу, состоящему из шести человек и нескольких других, так как сообщества здесь нет, здесь подбор лиц совершенно случайный, производившийся по мере ареста лиц и по некоторым другим обстоятельствам. Некоторые из этих лиц принимали самое деятельное участие и играли видную роль в революционных делах по различным отраслям, но они не составляют сообщества по данному предприятию. Михайлов этому делу человек совершенно посторонний. Рысаков свои отношения к организации определил верно: он состоял членом имитационной рабочей группы, которая относилась к Исполнительному Комитету как его разветвление, как одна из его отраслей».
Далее Желябов рассказывает об устройстве покушения под Александровском 18 ноября 1879 г. Решение Исполнительного Комитета о покушениях на царя было принято 26 августа в Петербурге. Намечены были предприятия на железных дорогах от Симферополя на Харьков, от Харькова к Петербургу и на Юго-Западных дорогах. Выбор определенного места и прочие подробности плана не могли быть решены 26 августа, но тогда же были определены участники предприятий и ассигнованы средства. Желябов, с одобрения Исполнительного Комитета, выбрал Александровск, отправился туда и привлек новых лиц, Исполнительному Комитету неизвестных: Окладского и Якова Тихонова[IX]. Осмотревшись в Александровске, Желябов увидел, что там было уместно устройство кожевенного завода, и на другой же день подал заявление в городскую думу, прося отвести землю в аренду под завод. Согласие думы было получено. Желябов отправился в Харьков, сообщил, что дело с городской думой улажено, и вместе с другими участниками этого предприятия снова приехал в Александровск, где и устроился 7 октября в квартире Бовенко[4]. Оставался Желябов в Александровске до 23 ноября. За все время до 18 ноября велись подготовительные работы к покушению и устройству кожевенного завода. «Утром 18 ноября я, вместе с другими участниками, выехал на повозке к месту, где была заложена мина; это громаднейший овраг: по отвесу 11 саженей, по откосу больше, вот в этом месте было заложено два снаряда[5] по такому расчету, чтобы они обхватывали целый поезд. Нам известно было, сколько вагонов должно быть в царском поезде, и обе эти мины захватывали собою поезд определенного количества вагонов. Итак, утром 18 ноября, получив ранее извещение от Преснякова[X] о том, что царский поезд выедет такого-то числа, или, правильнее сказать, не получив извещения, так как, по предшествовавшему уговору, неполучение известия должно было означать, что изменений нет, то есть что поезд выезжает в день, который был известен нам ранее, — это я указываю потому, что мне придется еще сказать, что Преснякова в Александровске не было[6], — так вот, 18 ноября, судя по признакам, мы не сомневались, что поезд проследует в определенный час, и мы стояли на месте[7], и хотя внешние признаки поезда заставляли сомневаться, чтобы это был поезд царский, тем не менее были сомкнуты провода, согласно тому, как изложено в обвинительном акте. Я “замкнул батарею”, то есть соединил токи, но взрыва не последовало». Спустя некоторое время были взяты проводники-проволоки, а снаряды оставлены в насыпи под шпалами, «так как наши техники давали ручательства, что по меньшей мере в продолжение двух лет взрыва не последует. В то время начались уже заморозки, выпал снег, производить раскопку не было возможности, снаряды же могли нам пригодиться весною». Думали весною опять вернуться сюда перед поездкой царя в Крым, но после предательства Гольденберга это было уже невозможно; потому во время суда 16-ти и было указано место закладки этих мин.
В качестве свидетелей на судебном следствии фигурировали шпики, полицейские чины, начиная с городового, дворники, казаки царского конвоя, жандармский капитан Кох, воинские чины, начиная с рядовых, квартирные хозяйки, где жили некоторые из обвиняемых, инженер-генерал Мровинский[XI]; эксперты — генерал-майор Федоров, полковник Лисовский, подполковник Шах-Назаров (по взрывчатым веществам, снарядам) — и эксперты по подкопам — архитектор Рылло, землемер Свирин и инженер-капитан Смирнов и прочие. Свидетели, конечно, подтвердили данные обвинительного акта, в том числе и то, что Тимофей Михайлов заходил в лавку Кобозева, из которой велся подкоп под Малую Садовую (на самом же деле он не знал о существовании этой лавочки и никогда там не был). Эксперты находили очень трудным, сложным и опасным изготовление домашним способом гремучего студня, которым были наполнены метальные снаряды, потому предполагали, что он заграничного происхождения. Кибальчич это опроверг. С устройством такого типа метательных снарядов, какие были употреблены 1 марта, экспертам не приходилось встречаться в научной литературе; потому они не оспаривали заявление Кибальчича, что изобретение их принадлежит техникам «Народной воли».
Относительно подкопа на Малой Садовой эксперты заявили, что «работа ведена со знанием дела». Относительно степени разрушения, эксперты полагали, что «взрыв мины образовал бы воронку от 2,5 до 3 саженей в диаметре. В окружающих домах были бы выбиты рамы, обвалилась бы штукатурка, и куски асфальта взлетели бы кверху; кроме того, в домах могли бы разрушиться и печи. Что же касается стен домов, то, смотря по степени их прочности, они могли бы дать более или менее значительные трещины. От взрыва пострадали бы все проходившие по панели, ехавшие по мостовой и даже люди, стоявшие в окнах нижних этажей. Люди могли пострадать как от действия газов и сотрясения, так и от кусков падающего асфальта и карнизов».
Кибальчич, выслушав экспертизу, заявил: «Принимая диаметр воронки в три сажени, оказывается, что сфера разрушения, происшедшего от взрыва, была бы очень местная; расстояние от краев воронки до панелей, где стояли или шли люди, было бы все-таки значительное, так что мне кажется неоспоримым, что стоявшие на панелях не пострадали бы от сотрясения и газов: могли бы пострадать только от обломков асфальта, но они вылетели бы вверх и только падая вниз могли произвести ушибы. Вот весь вред, который мог быть причинен взрывом посторонним лицам. Что касается до вреда домам, то не спорю, что окна были бы выбиты, как показал взрыв метательных снарядов, но чтобы обрушились печи и потолки, то я считаю это совершенно невероятным. Я просил бы гг. экспертов привести из литературы предмета пример, чтобы два пуда динамита (из мины было извлечено динамита 89 фунтов вместе с посудою) на таком расстоянии произвели такое, разрушительное действие, о котором они говорят. Я полагаю, что взрыв этой мины был бы даже менее разрушителен, чем взрыв двух метательных снарядов. Конечно, все, что находилось бы над воронкою, то есть экипаж и конвой, погибли бы, но не больше».
Эксперты не возражали.
При взрыве первого снаряда были смертельно ранены конвойный казак и мальчик.
При втором взрыве было много жертв, благодаря тому, что была толпа около царя.
Вообще при взрывах из свиты и конвоя было ранено девять человек, из которых один умер (казак); из числа чинов полиции и посторонних лиц (главным образом шпиков) ранено десять, из которых умер один (мальчик), и, кроме того, смертельно ранен бросивший второй снаряд Гриневицкий, умерший в придворном госпитале.
Прокурор Н. Муравьев[XII] в своей речи поддерживал обвинение относительно всех подсудимых в полном объеме и заключил, что им «не может быть места среди божьего мира. Отрицатели веры, бойцы всемирного разрушения и всеобщего дикого безначалия, противники нравственности, беспощадные развратители молодости, всюду несут они свою страшную проповедь бунта и крови, отмечая убийствами свой отвратительный след. Дальше им идти некуда: 1 марта они переполнили меру злодейства. Довольно выстрадала из-за них наша родина, которую они запятнали драгоценною царскою кровью,— и в вашем лице Россия совершит над ними свой суд. Да будет же убиение величайшего из монархов последним деянием их земного преступного поприща».
Защитник Рысакова, присяжный поверенный Унковский[XIII], требовал снисхождения к подсудимому по его молодости и легкомыслию и влиянию других обвиняемых, увлекших его к цареубийству.
Защитник Т. Михайлова, присяжный поверенный Хартулари[XIV], старался доказать, что обвинение Михайлова в участии в цареубийстве на судебном следствии ничем не доказано, и что имеется против него один только оговор Рысакова.
Присяжный поверенный Герке[XV], защитник Гельфман, доказывал, что нужно верить только тому, что признает сама Геся Гельфман, а именно: занималась революционными делами, принадлежала по убеждениям к революционно-социалистической партии, разделяла программу «Народной воли», была хозяйкою конспиративных квартир, где, между прочим, заведомо для нее, бывали собрания лиц, принадлежащих к террористической фракции, и где говорилось о цареубийстве; но, по заявлению Гельфман, она в собраниях этих не участвовала и активного участия в цареубийстве не принимала, что подтверждается и показаниями Рысакова, а судебное следствие ничего к этому не прибавило.
Присяжный поверенный Герард[XVI], защитник Кибальчича, долго останавливался на биографии Кибальчича, чтоб показать, что внешние условия толкнули Кибальчича на тот путь, который привел его на скамью подсудимых по настоящему делу. Летом 1875 года он был у брата в Киевской губернии, где общался с крестьянами и давал им для чтения свои книжки, между которыми была одна запрещенная — «Сказка о четырех братьях»[XVII], которая в конце концов попала к священнику, представившему ее по начальству.
По этому делу Кибальчич был арестован 11 октября 1875 года, судился в особом присутствии сената 1 мая 1878 года, был приговорен к одному месяцу тюремного заключения, просидев в одиночном заключении 2 г. 8 м., и был освобожден.
Выйдя на волю, Кибальчич стал хлопотать о поступлении вновь в Медико-хирургическую академию, но после убийства Мезенцева 4 августа 1878 года одною из первых административных мер была высылка из Петербурга всех, кто когда-либо привлекался в качестве обвиняемого по политическим делам, независимо от того, был ли обвинен или оправдан. Этому же должен был подвергнуться и Кибальчич, но он предпочел перейти на нелегальное положение, которое и привело его на тот путь, на котором он находится.
«Следя за прежними процессами, участвуя в некоторых из них в качестве защитника, я старался понять, откуда может произойти у нас подобное явление, и прихожу к тому заключению, что в тех мерах, с которыми прежде относилась к преследуемым по политическим процессам наша судебная администрация, многое таится».
Защитник Перовской, присяжный поверенный Кедрин[XVIII], приглашает суд отвлечь свое внимание от картины, нарисованной прокурором, и обратить внимание на личность подсудимой, которую он старается выставить совершенно в ином виде, чем она рисовалась по обвинительному акту. «Я увидел скромную девушку, с такими манерами, которые не напоминали ничего зверского, ничего ужасного. Где же причина этому явлению?»
Для того, чтобы обсудить этот вопрос, Кедрин приводит биографические сведения. В 1871 году Перовская привлекалась к дознанию о каком-то тайном сообществе, имевшем связь с революционной деятельностью, но потом оказалось, что это сообщество преследовало благотворительные цели, почему и следствие над Перовской было прекращено. В 1873 году Перовская привлекалась по делу 193-х, следствие по которому тянулось пять лет, но улик против нее собрано не было, и особое присутствие сената оправдало ее. До суда 193-х Перовская жила в Симферополе со своею матерью. Под ее ведением и управлением находились два барака общества «Красного Креста». После оправдания Перовская уехала к матери в Симферополь и снова начала заниматься тем же делом, но была арестована и сослана административным порядком. С дороги ей удалось бежать, и она перешла на нелегальное положение. «Такое состояние неотразимо действует на нравственное чувство человека и невольно возбуждает в нем инстинкты, которых следовало бы избегать. Вспомним, что между таковыми нелегальными людьми социально-революционные идеи необходимо получают громадную силу. Члены революционных кружков, сталкиваясь только между собою, не слыша беспристрастной научной критики их идей, естественно, всё более и более проникаются ими и доходят до самых разрушительных теорий. Таким образом и идеи Перовской постепенно принимали всё более и более красный оттенок, всё более и более побуждали ее идти по дороге революции... Если вы только согласитесь со мною, что действительно первым толчком, который побудил Перовскую идти по этому пути, была административная ссылка, и что благодаря этой ссылке и той интенсивности идей, замкнутых в среде небольшого кружка, которая мешала строгой их критике, подсудимая дошла до настоящего положения, то в этих обстоятельствах вы должны усмотреть данные, которые, до известной степени, объясняют судьбу Перовской». Потому он ходатайствует о возможно более снисходительном отношении к участи подсудимой.
Желябов от защитника отказался и защищался сам. Приводим целиком его речь.
«Господа судьи, дело всякого убежденного деятеля дороже ему жизни. Дело наше здесь было представлено в более извращенном виде, чем наши личные свойства. На нас, подсудимых, лежит обязанность, по возможности, представить цель и средства партии в настоящем их виде. Обвинительная речь, на мой взгляд, сущность наших целей и средств изложила совершенно неточно. Ссылаясь на те же самые документы и вещественные доказательства, на которых г. прокурор основывает обвинительную речь, я постараюсь это доказать. Программа рабочих послужила основанием для г. прокурора утверждать, что мы не признаем государственного строя, что мы безбожники и так далее. Ссылаясь на точный текст этой программы рабочих, говорю, что мы государственники, не анархисты. Анархисты — это старое обвинение. Мы признаем, что правительство всегда будет, что государственность неизбежно должна существовать, поскольку будут существовать общие интересы. Я, впрочем, желаю знать вперед, могу ли касаться принципиальной стороны дела или нет?»
Первоприсутствующий: «Нет, вы имеете только предоставленное вам законом право оспаривать те фактические данные, которые прокурорскою властью выставлены против вас и которые вы признаете неточными и неверными».
Желябов: «Итак, я буду разбирать по пунктам обвинение. Мы не анархисты, мы стоим за принцип федерального устройства государства, а как средство для достижения такого строя мы рекомендуем очень определенные учреждения. Можно ли нас считать анархистами? Далее, мы критикуем существующий экономический строй и утверждаем...»
Первоприсутствующий: «Я должен вас остановить. Пользуясь правом возражать против обвинения, вы излагаете теоретические воззрения. Я заявляю вам, что особое присутствие будет иметь в виду все те сочинения, брошюры и издания, на которые стороны указывали; но выслушивание теоретических рассуждений о достоинствах того или другого государственного и экономического строя оно не считает своею обязанностью, полагая, что не в этом состоит задача суда».
Желябов: «Я в своем заявлении говорил и от прокурора слышал, что наше преступление — событие 1 марта — нужно рассматривать как событие историческое, что это не факт, а история. И совершенно верно... Я совершенно согласен с прокурором и думаю, что всякий согласится, что этот факт нельзя рассматривать особняком, а что его нужно рассматривать в связи с другими фактами, в которых проявилась деятельность партии».
Первоприсутствующий: «Злодеяние 1 марта — факт, действительно принадлежащий истории, но суд не может заниматься оценкой ужасного события с этой стороны; нам необходима знать ваше личное в нем участие, поэтому о вашем к нему отношении — и только о вашем — можете вы давать объяснения».
Желябов: «Обвинитель делает ответственными за события 1 марта не только наличных подсудимых, но и всю партию и считает самое событие логически вытекающим из целей и средств, о каких партия заявляла в своих печатных органах...»
Первоприсутствующий: «Вот тут-то вы и вступаете на ошибочный путь, на что я вам указывал. Вы имеете право объяснить свое участие в злодеянии 1 марта, а вы стремитесь к тому, чтобы войти в объяснения отношения к этому злодеянию партии. Не забудьте, что вы, собственно, не представляете для особого присутствия лицо, уполномоченное говорить за партию, и эта партия для особого присутствия, при обсуждении вопроса о вашей виновности, представляется несуществующею. Я должен ограничить вашу защиту теми пределами, которые указаны для этого в законе, то есть пределами фактического и вашего нравственного участия в данном событии, и только вашего. В виду того, однако, что прокурорская власть обрисовала партию, вы имеете право объяснить суду, что ваше отношение к известным вопросам было иное, чем указанное обвинением отношение партии. В этом я вам не откажу, но, выслушивая вас, я буду следить за тем, чтобы заседание особого присутствия не сделалось местом для теоретических обсуждений вопросов политического свойства, чтобы на обсуждение особого присутствия не предлагались обстоятельства, прямо к настоящему делу не относящиеся, и главное, чтобы не было сказано ничего такого, что нарушает уважение к закону, властям и религии. Эта обязанность лежит на мне, как на председателе; я исполню ее».
Желябов: «Первоначальный план защиты был совершенно не тот, которого я теперь держусь. Я полагал быть кратким и сказать только несколько слов. Но в виду того, что прокурор пять часов употребил на извращение того самого вопроса, который я считал уже выясненным, мне приходится считаться с этим фактом, и я полагаю, что защита в тех рамках, какие вы мне теперь определяете, не может пользоваться тою свободою, какая была предоставлена раньше прокурору».
Первоприсутствующий: «Такое положение создано вам существом предъявленного к вам обвинения и характером того преступления, в котором вы обвиняетесь. Насколько, однако, представляется вам возможность, не нарушая уважения к закону и существующему порядку, пользоваться свободой прений, вы можете ею воспользоваться».
Желябов: «Чтобы не выйти из рамок, вами определенных и вместе с тем не оставить свое дело необоренным, я должен остановиться на тех вещественных доказательствах, на которые здесь ссылался прокурор, а именно на разных брошюрах, например, брошюре Морозова и литографированной рукописи, имевшейся у меня. Прокурор ссылается на эти вещественные доказательства. На каком основании? Во-первых, литографированная программа социалистов-федералистов найдена у меня, но ведь все эти вещественные доказательства находятся в данный момент у прокурора. Имею ли я основание и право сказать, что они суть плоды его убеждения, поэтому у него и находятся? Неужели один лишь факт нахождения литографированной программы у меня свидетельствует о том, что это мое собственное убеждение? Во-вторых, некий Морозов написал брошюру. Я ее не читал, сущность ее я знаю; к ней, как партия, мы относимся отрицательно и просили эмигрантов не пускаться в суждения о задаче русской социально-революционной партии, пока они за границей, пока они беспочвенники. Нас делают ответственными за взгляды Морозова, служащие отголоском прежнего направления, когда действительно некоторые из членов партии, узко смотревшие на вещи, вроде Гольденберга, полагали, что вся наша задача состоит в расчищении пути через частые политические убийства. Для нас в настоящее время отдельные террористические факты занимают только одно из мест в ряду других, задач, намечаемых ходом русской жизни.
Я тоже имею право сказать, что я русский человек, как сказал о себе прокурор». (В публике движение, ропот негодования и шиканье. Желябов на несколько мгновений останавливается. Затем продолжает.) «Я говорил о целях партии. Теперь я скажу о средствах. Я желал бы предпослать прежде маленький исторический очерк, следуя тому пути, которым шел прокурор.
Всякое общественное явление должно быть познаваемо по его причинам, и чем сложнее и серьезнее общественное явление, тем взгляд на прошлое должен быть глубже. Чтобы понять ту форму революционной борьбы, к какой прибегает партия в настоящее время, нужно познать это настоящее в прошедшем партии, а это прошедшее имеется: не многочисленно оно годами, но очень богато опытом. Если, вы, господа судьи, заглянете в отчеты о политических процессах, в эту открытую книгу бытия, то вы увидите, что русские народолюбцы не всегда действовали метательными снарядами, что в нашей деятельности была юность, розовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виною».
Первоприсутствующий: «Подсудимый, вы выходите из тех рамок, которые я указал. Говорите только о своем отношении к делу».
Желябов: «Я возвращаюсь. Итак, мы, переиспытав разные способы действовать на пользу народа в начале семидесятых годов, избрали одно из средств, а именно положение рабочего человека, с целью мирной пропаганды социалистических идей, — движение крайне безобидное по средствам своим. И чем оно окончилось? Оно разбилось исключительно о многочисленные преграды, которые встретило в лице тюрем и ссылок. Движение совершенно бескровное, отвергающее насилие, не революционное, а мирное, было подавлено. Я принимал участие в этом движении, и это участие поставлено мне прокурором в вину. Я желаю выяснить характер движения, за которое несу в настоящее время ответ. Это имеет прямое отношение к моей защите».
Первоприсутствующий: «Но вы были тогда оправданы».
Желябов: «Тем не менее, прокурор ссылается на привлечение мое к процессу 193-х».
Первоприсутствующий: «Говорите в таком случае только о фактах, прямо относящихся к делу».
Желябов: «Я хочу сказать, что в 1873, 1874 и 1875 годах я еще не был революционером, как определяет прокурор, так как моя задача была работать на пользу народа, ведя пропаганду социалистических идей; я насилия в то время не признавал, политики касался я весьма мало, товарищи — еще меньше. В 1874 году в государственных воззрениях мы в то время были, действительно, анархистами. Я хочу подтвердить слова прокурора. В речи его есть много верного. Но верность такова: в отдельности взятое частичками — правда, но правда, взятая из разных периодов времени, и затем составлена из нее комбинация совершенно произвольная, от которой остается один только кровавый туман... »
Первоприсутствующий: «Это по отношению к вам».
Желябов: «По отношению ко мне. Я говорю, что все мои желания были действовать мирным путем в народе, тем не менее, я очутился в тюрьме, где я революционизировался. Перехожу ко второму периоду социалистического движения. Этот период начинается... но, по всей вероятности, я должен буду отказаться от мысли принципиальной защиты и, вероятно, закончу речь просьбою к первоприсутствующему такого содержания: чтобы речь прокурора была отпечатана с точностью. Таким образом, она будет отдана на суд общественный и суд Европы. Теперь я сделаю еще попытку. Непродолжительный период нахождения нашего в народе показал всю книжность, все доктринерство наших стремлений. С другой стороны, убедил, что в народном сознании есть много такого, за что следует держаться, на чем, до поры до времени, следует остановиться. Считая, что при тех препятствиях, какие ставило правительство, невозможно провести в народное сознание социалистические идеалы целостью, социалисты перешли к народникам. Мы решились действовать во имя осознанных народом интересов, уже не во имя чистой доктрины, а на почве интересов, присущих народной жизни, им сознаваемых. Это отличительная черта народничества. Из мечтателей-метафизиков оно перешло в позитивизм и держалось почвы, — это основная черта народничества. Дальше, Таким образом изменился характер нашей деятельности, а вместе с тем и средства борьбы. Пришлось от слова перейти к делу. Вместо пропаганды социалистических идей выступает на первый план агитационное возбуждение народа во имя интересов, присущих его сознанию. Вместо мирного слова, мы сочли нужным перейти к фактической борьбе. Эта борьба всегда соответствует количеству накопленных сил. Прежде всего ее решились пробовать на мелких фактах. Так дело шло до 1878 года. В 1878 году впервые, насколько мне известно, явилась мысль о борьбе более радикальной, явились помыслы рассечь Гордиев узел, так что событие 1 марта по замыслу нужно отнести прямо к зиме 1877—1878 годов. В этом отношении 1878 год был переходный, что видно из документов, например, брошюры “Смерть за смерть”. Партия не уяснила еще себе вполне значения политического строя в судьбах русского народа, хотя все условия наталкивали ее на борьбу с политической системой...» Первоприсутствующий прерывает Желябова.
Желябов: «Все толкало меня в том числе на борьбу с правительственною системой. Тем не менее, я еще летом 1878 года находился в деревне, действуя в народе. В зиму 1878—1879 года положение вещей было совершенно безвыходное, и весна 1879 года была проведена мною на юге в заботах, относившихся прямо к этого рода предприятиям. Я знал, что в других местах товарищи озабочены тем же, в особенности на севере; что на севере этот вопрос породил раскол в тайном обществе, в организации “Земля и воля”, что часть этой организации ставит себе именно те задачи, как и я с некоторыми товарищами на юге. Отсюда естественно сближение, которое перешло на Липецком съезде в слияние[XIX]. Тогда северяне, а затем часть южан, собравшись в лице своих представителей на съезде, определили новое направление. Решения Липецкого съезда были вовсе не так узки, как здесь излагалось в обвинительной речи. Основные положения новой программы были таковы: политический строй...»
Первоприсутствующий: «Подсудимый, я решительно лишу вас слова, потому что вы не хотите следовать моим указаниям. Вы постоянно впадаете в изложение теории».
Желябов: «Я обвиняюсь за участие на Липецком съезде».
Первоприсутствующий: «Нет, вы обвиняетесь в совершении покушения под Александровском, которое, как объясняет обвинительная власть, составляет последствие Липецкого съезда».
Желябов: «Если только я обвиняюсь в событии 1 марта и затем в покушении под Александровском, то в таком случае моя защита сводится к заявлению: да, так как фактически это подтверждено. Голое признание факта не есть защита...»
Первоприсутствующий: «Отношение вашей воли к этому факту...»
Желябов: «Я полагаю, что уяснение того пути, каким развивалось мое сознание, идея, вложенная в это предприятие...»
Первоприсутствующий: «Объяснение ваших убеждений, вашего личного отношения к этим фактам я допускаю. Но объяснения убеждений и взглядов партии я не допущу».
Желябов: «Я этой рамки не понимаю».
Первоприсутствующий: «Я прошу вас говорить о себе, о своем личном отношении к факту, как физическом, так и нравственном, об участии вашей воли, о ваших действиях...»
Желябов: «На эти вопросы кратко я отвечал в начале судебного заседания. Если теперь будет мне предоставлено говорить только так же кратко, зачем тогда повторяться и обременять внимание суда?»
Первоприсутствующий: «Если вы ничего более прибавить не имеете...»
Желябов: «Я думаю, что я вам сообщил скелет. Теперь желал бы я изложить душу...»
Первоприсутствующий: «Вашу душу, а не душу партии».
Желябов: «Да, мою. Я участвовал на Липецком съезде. Решения этого съезда определили ряд событий, в которых я принимал участие, и за участие в которых я состою в настоящее время на скамье подсудимых. Поскольку я принимал участие в этих решениях, я имею право касаться их. Я говорю, что намечена была задача не такая узкая, как говорит прокурор: повторение покушений и в случае неудачи совершение удачного покушения во что бы то ни стало. Задачи, на Липецком съезде поставленные, были вовсе не так узки. Основное положение было такое, что социально-революционная партия — и я в том числе, это мое убеждение — должна уделять часть своих сил на политическую борьбу. Намечен был и практический путь. Это — путь насильственного переворота путем заговора, для этого организация революционных сил в самом широком смысле. До тех пор я лично не видел надобности в крепкой организации. В числе прочих социалистов я считал возможным действовать, опираясь по преимуществу на личную инициативу, на личную предприимчивость, на личное уменье. Оно и понятно. Задача была такова: уяснить сознание возможно большего числа лиц, среди которых живешь. Организованность была нужна только для получения таких средств, как книжки, и доставка их из-за границы; печатание их в России было также организовано. Все дальнейшее не требовало особой организованности. Но раз была поставлена задача насильственного переворота, задача, требующая громадных организованных сил, мы, и я между прочим, озаботились созданием этой организации в гораздо большей степени, чем покушения. После Липецкого съезда, при таком взгляде, на надобность организации, я присоединился к организации, в центре которой стал Исполнительный Комитет, и содействовал расширению этой организации; в его духе я старался вызвать к жизни организацию единую, централизованную, состоящую из кружков автономных, но действующих по одному общему плану, в интересах одной общей цели. Я буду резюмировать сказанное. Моя личная задача, цель моей жизни была: служить общему благу. Долгое время я работал для этой цели путем мирным, и только затем был вынужден перейти к насилию. По своим убеждениям, я оставил бы эту форму борьбы насильственной, если бы только явилась возможность борьбы мирной, то есть мирной пропаганды своих идей, мирной организации своих сторонников. В своем последнем слове, во избежание всяких недоразумений, я сказал бы еще следующее: мирный путь возможен, от террористической деятельности я, например, отказался бы, если бы изменились внешние условия...»
Первоприсутствующий: «Больше ничего не имеете сказать в свою защиту?»
Желябов: «В защиту свою ничего не имею. Но я должен сделать маленькую поправку к тем замечаниям, которые я давал во время судебного следствия. Я позволил себе увлечься чувством справедливости, обратил внимание гг. судей на участие Тимофея Михайлова во всех этих делах, именно, что он не имел никакого отношения ни к метательным снарядам, ни к подкопу на Малой Садовой. Я теперь почти убежден, что, предупреждая гг. судей от возможности поступить ошибочно по отношению к Михайлову, я повредил Тим. Михайлову, и если бы мне вторично пришлось участвовать на судебном следствии, то я воздержался бы от такого заявления, видя, что прокурор и мы, подсудимые, взаимно своих нравственных побуждений не понимаем».
Первоприсутствующий объявил прения сторон оконченными и затем предлагает подсудимым воспользоваться последним словом.
Рысаков: «Прокурор старался сделать меня членом террористической фракции. Я не знаю, можно ли мне отказаться голословно, всецело и безусловно от принадлежности к террористической фракции, или же я имею право подтвердить это какими-нибудь доказательствами чисто научного свойства».
Первоприсутствующий: «Теперь судебное следствие уже кончено. Вы должны основываться на данных, которые были проверены во время судебного следствия: никаких новых данных, не проверенных на судебном следствии, теперь приводить нельзя. Но в последнем вашем слове вы можете сказать все, что находите нужным, о вашем отношении к преступлению, в котором вы обвиняетесь».
Рысаков отрицает принадлежность к террористической фракции, против систематической террористической борьбы протестует и говорит, что явное восстание не может привести к цели.
Тимофей Михайлов заявляет, что принадлежит к той партии, которая защищает дело рабочих.
Гельфман заявляет, что в защиту себя ничего не желает говорить, но хочет только исправить некоторые указания защитника. Говорит, что он верно сообщил, что она была арестована в 1875 году за то, что на ее адрес были получены письма другими, что у нее, по показанию квартирной хозяйки, были собрания молодых людей. «Вот те улики, которые существовали против меня в 1875 году. Я была арестована, просидела до 1879 года и была сослана в Старую Русу. (До суда по процессу 50-ти в 1877 году просидела почти два года; была арестована в сентябре 1875 года, по суду приговорена на два года заключения в рабочем доме, откуда и была освобождена в мае 1879 года. — А. Як.). Через три месяца после освобождения я уехала (из Старой Русы) и приехала в Петербург, но не потому (как говорит защитник), что полиция преследовала, потому, что, когда меня освободили, я задалась целью служить тому делу, которому служила».
Кибальчич: «О своем физическом отношении к событию 1 марта я говорил уже раньше. Теперь, пользуясь правом слова, мне предоставленным, я скажу о своем нравственном отношении, о том логическом пути, по которому я пришел к известным выводам. Я, в числе других социалистов, признаю право каждого на жизнь, свободу, благосостояние и развитие всех нравственных и умственных сил человеческой природы. С этой точки зрения лишение жизни человека — и не с этой только, но и вообще с человеческой точки зрения — является вещью ужасною. Г. прокурор в своей речи, блестящей и красивой, заявил сомнение на мое возражение, высказанное раньше, что для меня лично и для партии вообще желательно прекращение террористической деятельности и направление силы партии исключительно на деятельность другую; он выставил в частности меня и вообще партию лицами, проповедующими террор для террора, выставил лицами, предпочитающими насильственные действия мирным средствам только потому, что они насильственные. Какая это странная, невероятная любовь к насилию и крови! Мое личное желание и желание других лиц, как мне известно, мирное решение вопроса».
Первоприсутствующий: «Я приглашаю вас касаться только вашей защиты».
Кибальчич: «Г. прокурор говорил, что весьма важно выяснение нравственной личности подсудимого. Я полагаю, что то, что я говорю, относится к характеристике моей нравственной и умственной личности, если я заявляю свое мнение об известных существенных вопросах, которые теперь волнуют всю Россию и обращают на себя внимание. Я внимательно следил за речью г. прокурора и именно за тем, как он определяет причину революционного движения, и вот что я вынес: произошли реформы, все элементы были передвинуты, в обществе образовался негодный осадок, этому осадку было нечего делать, и, чтобы изобрести дело, этот осадок изобрел революцию. Вот отношение г. прокурора к этому вопросу. Теперь в отношении к вопросу о том, каким же образом достигнуть того, чтобы эти печальные события, которые всем известны, больше не повторялись, как верное для этого средство им указывается на то, чтобы не давать никаких послаблений, чтобы карать и карать; но, к сожалению, я не могу согласиться с г. прокурором в том, чтобы рекомендованное им средство привело к желательному результату.
Затем, уже по частному вопросу, я имею сделать заявление насчет одной вещи, о которой уже говорил мой защитник.
Я написал проект воздухоплавательного аппарата[XX]. Я полагаю, что этот аппарат вполне осуществим. Я представил подробное изложение этого проекта с рисунками и вычислениями. Так как, вероятно, я уже не буду иметь возможности выслушать взгляд экспертов на этот проект и вообще не буду иметь возможности следить за его судьбою и, возможно, предусмотреть такую случайность, что кто-нибудь воспользуется этим моим проектом, то я теперь публично заявляю, что проект мой и эскиз его, составленный мною, находится у г. Герарда».
Перовская: «Много, очень много обвинений сыпалось на нас со стороны г. прокурора. Относительно фактической стороны обвинений я не буду ничего говорить, — я все их подтвердила на дознании. Но относительно обвинения меня и других в безнравственности, жестокости и пренебрежении к общественному мнению, относительно всех этих обвинений я позволю себе возражать и сошлюсь на то, что тот, кто знает нашу жизнь и условия, при которых нам приходится действовать, не бросит в нас ни обвинения в безнравственности, ни обвинения в жестокости».
Желябов: «Я имею сказать только одно: на дознании я был очень краток, зная, что показания, данные на дознании, служат лишь целям прокуратуры. А теперь я сожалею и о том, что говорил здесь на суде. Больше ничего».
Затем, по постановке вопросов о виновности, выслушании их сторонами, утверждении их, особое присутствие выносит ответы на вопросы о виновности, и оказывается, что все подсудимые виновны во всем, что ставилось им в вину обвинительным актом.
Прокурор требовал для всех подсудимых смертной казни. Присяжный поверенный Унковский возражал, что к его подзащитному, Рысакову, на основании закона о несовершеннолетних, не должна быть применена смертная казнь.
Прокурор опровергал толкование закона о несовершеннолетних по отношению к Рысакову.
Присяжный поверенный Герке просил суд принять во внимание, что Гельфман играла второстепенную роль, и смягчить наказание, «а если это будет признано выходящим за пределы милости, которую суд может оказать, то я прошу: не будет ли признано возможным ходатайствовать об этом».
Больше никто заявлений не делал.
Суд удалился для совещания о наказании и в 6 часов 20 минут утра, 29 марта, вынес приговор: всем подсудимым — смертная казнь. Приговор в окончательной форме был объявлен 30 марта, в 4 часа пополудни.
Для подачи кассационных жалоб на приговор суда был назначен суточный срок, который и истек 31 марта, в 5 часов пополудни.
Кассационных жалоб никто из подсудимых не подавал.
Рысаков и Михайлов подали прошения царю о помиловании, но особое присутствие сената полагало, «что всеподданнейшие просьбы Рысакова и Михайлова о помиловании представляются не заслуживающими уважения», потому не были даже пересланы царю.
31 марта в 5 часов пополудни приговор вошел в законную силу. Приговор был утвержден царем по отношению ко всем осужденным.
Казнь пяти осужденных была назначена 3 апреля. Казнь Геси Гельфман, по случаю ее беременности, засвидетельствованной медицинской комиссией в присутствии прокурора и градоначальника, была отложена до послеродового периода.
Рысакова все время, во время суда и после суда, продолжали допрашивать, и он уже опорожнил решительно всё не только то, что сам знал, но и то, что когда-либо слышал от кого-нибудь.
2 апреля, накануне казни, в заявлении петербургскому градоначальнику Баранову[XXI] Рысаков предлагал быть уличным шпионом, чтоб указать тех нелегальных, фамилии которых не знал, а знал их только в лицо.
Все осужденные перед казнью содержались в Доме предварительного заключения и оттуда отправлены на место казни, на Семёновский плац, в 7 ч. 50 м. утра.
Утром их переодели во все казенное и в черные арестантские халаты сверху. Разместили их на двух высоких позорных колесницах: Желябов и Рысаков на одной, Михайлов, Перовская и Кибальчич на другой. Руки, ноги и туловище прикрепили ремнями к сиденью; на груди у всех висели доски с надписью — «цареубийца». Осужденные сидели сажени на две над мостовою. Везли их по улицам Шпалерной, Литейному проспекту, Кирочной, Надеждинской и Николаевской до Семёновского плаца.
Сопровождали 11 полицейских чиновников во главе с подполковником Дубисса-Крачаком, несколько околоточных надзирателей, городовых и, сверх того, местная полиция 1-го, 2-го, 3-го и 4-го участков Литейной части и 1-го и 2-го участков Московской части. Конвой, сопровождавший, состоял из двух эскадронов кавалерии и двух рот пехоты. У Дома предварительного заключения, по пути следования и на Семёновском плацу, были, сверх того, усиленные наряды конных жандармов. «В помощь полиции, по пути следования, от войск находились следующие части: рота на Шпалерной ул., у Дома П. З., рота на Литейном проспекте со стороны арсенала; рота на углу Невского и Николаевской ул.; рота по Николаевской ул., у мясного рынка».
Наблюдение на Семёновском плацу, на месте казни, с прибегающими к нему улицами, было поручено полковнику Есипову, в распоряжении которого находились шесть полицейских чиновников, «много других лиц», а также местная полиция 3-го и 4-го участка Московской части и 3-го участка Александровской части. Кроме того, в распоряжении полицмейстера полковн. Есипова находились четыре роты и две сотни казаков у входа на Семёновском плацу, две роты у входа с Николаевской улицы на плац; две роты у входа с Гороховой улицы; одна рота у Царскосельской железной дороги и одна рота по Обводному каналу.
Всеми войсками на Семёновском плацу командовал начальник 2-й гвардейской кавалерийской дивизии генерал-адьютант, генерал-лейтенант барон Дризен. («Дело 1 марта 1881 г.», изд. Балашова). (Не было только артиллерии против таких сильных врагов, как пять привязанных ремнями к колеснице осужденных государственных преступников. — А. Як.).
3 апреля, в 9 ч. 50 м. утра, на Семёновском плацу приговор над пятью осужденными был приведен в исполнение.
Судьба Геси Гельфман по своему трагизму превосходит всё, бывшее до тех пор: три месяца жила она под приговором к смертной казни, которая затем, только под влиянием общественного мнения Западной Европы и Америки, была официально заменена бессрочной каторгой. Но Геся была во время родов, которые происходили под наблюдением придворного акушера Баландина и акушерки, привезенной им с собою (медицинский персонал Дома предварительного заключения был отстранен). Несколько месяцев Геся проболела, а потом образовалась гангрена, и за неделю до ее смерти отняли, в буквальном смысле слова, ее ребенка — дочь, которую со всякими конспиративными предосторожностями отправили в Воспитательный дом и записали там за номером, как дочь «неизвестных родителей».
Геся Мировна Гельфман умерла 1 февраля 1882 года в Доме предварительного заключения[XXII].
Примечания автора
[1] Следствие вел прокурор Добринский, уже искусившийся в этого рода делах.
[2] В дальнейшем изложении придерживаюсь стенографического отчета, напечатанного в Петербурге в типографии Комарова в 1881 году, — «Суд над цареубийцами». Отчет далеко не полный, что касается программных объяснений подсудимых.
[3] Не приведенным в напечатанном стенографическом отчете.
[4] С А. В. Якимовой, под фамилией супругов Черемисовых.
[5] Под полотно дороги.
[6] 18 ноября.
[7] По другую сторону оврага, куда были проведены провода от заложенных мин.
Комментарии научного редактора
[I] Они представляли три ведомства, обеспечивавших охрану императора: городскую полицию, корпус жандармов и казачий конвой соответственно.
[II] Гольденберг Григорий Давыдович (1855—1880) — народоволец, из рабочих. 9 февраля 1879 г. застрелил харьковского губернатора князя Д.Н. Кропоткина. В октябре-ноябре 1879 г. участвовал в неудачном покушении на Александра II под Александровском. Тогда же был арестован при перевозе динамита. Прокурор Добржинский воспользовался неопытностью Гольденберга и убедил его дать подробные показания против народовольцев. Осознав свою ошибку, Гольденберг не вынес угрызений совести и повесился в тюремной камере.
[III] Окладский Иван Федорович (1859—1925) — народоволец, рабочий. В 1879 г. участвовал в неудачном покушении на Александра II под Александровском. Летом 1880 г. участвовал в попытке покушения на царя под Каменным мостом в Петербурге. Был арестован и по «процессу 16-ти» приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В 1881 г. стал предателем. С 1883 г. поступил в секретные сотрудники департамента полиции, где служил до Февральской революции. Предательство Окладского было раскрыто в 1918 г. В 1924 г. он был арестован и приговорен Верховным судом РСФСР к смертной казни, замененной в связи с преклонным возрастом десятью годами лишения свободы. Умер в заключении в 1925 г.
[IV] Саблин Николай Алексеевич (1849 или 1850 — 1881) — народоволец, поэт. Член московского кружка «чайковцев», участник «хождения в народ» в 1874 г. После прекращения работы в деревне из-за доноса местного попа Саблин выехал в Швейцарию. В феврале 1875 г. был принят в I Интернационал, а при возвращении в Россию в марте того же года арестован. Привлечен к суду по делу участников «хождения в народ» («процесс 193-х»). По приговору суда ему было вменено в наказание предварительное заключение, длившееся почти три года. Однако по указанию царя, вопреки решению суда подпал под административную ссылку. Вступил в организацию «Земля и воля», после её раскола в 1879 г. стал членом «Народной воли». Покончил с собой при аресте.
[V] В действительности Тимофей Михайлов был одним из метальщиков 1 марта, но бомбу не бросал. Остальные подсудимые-народовольцы (кроме Рысакова) отрицали участие Михайлова, надеясь спасти его от казни, поскольку у следствия не было против него убедительных доказательств.
[VI] Фукс Эдуард Яковлевич (1834—1909) — юрист, с 1877 г. сенатор, в 1881 г. первоприсутствующий Особого присутствия Сената для суждения дел о государственных преступниках.
[VII] Первая рота — название одной из петербургских улиц, на которой с 1730-х гг. проживали солдаты и офицеры 1-й роты Измайловского полка. После их перевода в начале XIX в. в новые казармы улица стала застраиваться доходными домами. Наиболее интенсивное их строительство развернулось после реформы 1861 г., когда в Петербург в поисках заработков хлынули толпы разоренных крестьян.
[VIII] «Черный передел» (1879—1881) — народническая организация, созданная после раскола «Земли и воли». В отличие от «Народной воли» чернопередельцы придерживались экономических форм борьбы, придавали громадное положительное значение русской общине.
[IX] Тихонов Яков Тихонович (1851—1882 или 1883) — народоволец, рабочий. За пропаганду среди рабочих в 1875 г. был сослан в Архангельскую губернию на каторгу, откуда бежал в 1877 г. Принимал участие в покушении 18 ноября 1879 г. под Александровском. Спустя неделю был арестован в Петербурге. Подсудимый на «процессе 16-ти» (1880), приговорен к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Заключение отбывал в Петропавловской крепости и на Каре, где и умер от чахотки.
[X] Пресняков Андрей Корнеевич (1856—1880) — народоволец, рабочий. Один из организаторов Казанской демонстрации 1876 г. Участвовал в покушении 18 ноября 1879 г. под Александровском. В 1880 г. был арестован, оказал вооруженное сопротивление. По «процессу 16-ти» приговорен к смертной казни. Повешен 4 ноября. Среди революционеров получил прозвище «гроза шпионов», собственноручно убил двух шпионов: Шарашкина в 1877 г. и Жаркова в 1880-м. Считался лучшим мастером «Народной воли» по гриму.
[XI] Мровинский Константин Иосифович (Осипович) (1828—1923) в 1881 г. ведал санитарной частью Петербурга. Накануне убийства Александра II небрежно провел осмотр (замаскированный обыск) «сырной лавки», из которой народовольцы вели подкоп под Малую Садовую улицу, и не обнаружил ничего подозрительного. В тому же году за необнаружение подкопа был судим, разжалован и сослан в Архангельскую губернию. По ходатайству дочери был частично помилован и смог вернуться в столицу.
[XII] Муравьёв Николай Валерианович (1850—1908) — российский юрист, государственный деятель. С 1879 г. — товарищ прокурора судебной палаты Петербурга. После суда над народовольцами был назначен прокурором Санкт-Петербургской судебной палаты. В 1894—1905 гг. — министр юстиции, активный сторонник сворачивания демократических судебных процедур, введенных реформой 1864 г. А. Ф. Кони собрал отзывы о Муравьеве в отдельную папку, которая имела заглавие «Мерзавец Муравьёв».
[XIII] Унковский Алексей Михайлович (1828—1893) — юрист и общественный деятель, один из первых присяжных поверенных (адвокатов) в Российской империи. В период проведения крестьянской реформы — губернский предводитель тверского дворянства и участник тверского губернского комитета по улучшению быта крестьян. Из всех губернских комитетов тверской был единственным, выступавшим за улучшение положения крестьянства. В конце 1858 г. над Унковским был установлен полицейский надзор. Спустя год Унковский был снят с должности предводителя дворянства за то, что нарушил запрет на обсуждение вопроса об освобождении крестьян применительно к Тверской губернии. Тем не менее, Унковский продолжал интересоваться вопросами, имевшими отношение к крестьянской реформе, в результате чего в 1860 г. на полгода был сослан в Вятку. После отмены крепостного права начал выступать защитником крестьян в их судебных разбирательствах с помещиками. В короткое время выиграл 18 таких процессов, после чего в 1862 г. ему было запрещено заниматься крестьянскими делами. В последующем стал присяжным поверенным в Петербурге, на этой должности пользовался огромным уважением, неоднократно вел судебные процессы, связанные с растратами казенных средств. Ближайшим другом Унковского был М. Е. Салтыков-Щедрин.
[XIV] Хартулари Константин Федорович (1841—1897) — юрист, писатель, один из первых присяжных поверенных (адвокатов) в Российской империи.
[XV] Герке Август Антонович (1841—1902) — видный адвокат, выступал на ряде процессов над революционерами.
[XVI] Герард Владимир Николаевич (1839—1903) — один из первых присяжных поверенных (адвокатов) в Российской империи. Выступал на политических процессах 70—80 гг. XIX в.
[XVII] «Сказка о четырех братьях» — популярная брошюра, изображавшая экономическую, политическую и религиозную эксплуатацию народа и содержавшая прямой призыв к восстанию. Ее автором был Л. А. Тихомиров (1852—1923) — народоволец, в 1879 г. — член Исполнительного комитета и редакции «Народной воли». Тихомиров не имел непосредственного отношения к убийству Александра II. Тем не менее, опасаясь ареста, в 1882 г. эмигрировал. В 1888 г. отрекся от революционных убеждений, просил помилования у Александра III и, получив его, вернулся в Россию. В дальнейшем придерживался монархических и православно-эсхатологических взглядов.
[XVIII] Кедрин Евгений Иванович (1851—1921) — видный адвокат, защитник на ряде процессов над революционерами. На «процессе 193-х» защищал А. В. Якимову. По «делу 1 марта 1881 года» защищал С. Л. Перовскую. В 1882 г. на «процессе 20-ти» защищал народовольца А. Д. Михайлова. На «процессе 17-ти» защищал А. В. Буцевича и Я. В. Стефановича. В период революции 1905—1907 гг. подвергался двухмесячному заточению в Петропавловской крепости, а затем был приговорен к трем месяцам тюрьмы, после чего признан потерявшим право участия в городской думе и земстве. Один из основателей кадетской партии. В 1919 г. — министр юстиции в Северо-Западном правительстве, сформированном английскими интервентами.
[XIX] Липецкий съезд — встреча в июне 1879 г. 11 лидеров партии «Земля и воля» (А.Д. Михайлов, А.А. Квятковский, Л.А. Тихомиров, Н.А. Морозов, А.И. Баранников, М.Н. Ошанина (петербургский кружок «Земли и воли»), А.И. Желябов, Н.И. Колодкевич, Г.Д. Гольденберг, М.Ф. Фроленко (южнорусские кружки) и С.Г. Ширяев (организация «Свобода или смерть!»)). На съезде было решено дополнить землевольческую программу принципом политической борьбы, принципиально был одобрен метод террора. 19 участников Воронежского съезда (18—21 июня) попытались выработать компромиссную программу, которая бы сочетала политические и экономические (работа в деревне) методы. Фактически решения съезда не выполнялись. К «политикам» вскоре присоединились С.Л. Перовская, В.Н. Фигнер и Е.Д. Сергеева, в результате этого сложилась партия «Народная воля». «Деревенщики» создали организацию «Черный передел». Иллюстрацией полицейских нравов провинциального городка является история, которая и привела землевольцев в Воронеж. Изначально съезд был запланирован в Тамбове, и «деревенщики», съехавшись заранее, катались по реке и пели песни. Незнакомые молодые люди вызвали интерес у полиции, и народникам пришлось покинуть город.
[XX] В период следствия и подготовки к процессу Кибальчич совершенно не интересовался судебным разбирательством, а спешно записывал — в том числе, и на стенах своей камеры — проект летательного аппарата, над которым он размышлял в течение предыдущих нескольких лет. Идея Кибальчича заключалась в использовании взрывчатых веществ для создания реактивной силы. Несмотря на его просьбу, власти по политическим мотивам не передали проект на рассмотрение ученым. О существовании проекта стало известно лишь после революции 1917 г. Фактически реактивный летательный аппарат Кибальчича мог применяться для полетов как в воздушном, так и в безвоздушном пространстве (космосе).
[XXI] Баранов Николай Михайлович (1837—1901) — генерал-лейтенант, градоначальник Санкт-Петербурга (март-август 1881). Флотский офицер, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., после которой был отставлен от службы из-за дрязг с начальством. В 1880 г. по ходатайству М.Т. Лорис-Меликова Баранов был переведен в полицию в звании полковника и отправлен за границу для организации надзора за русскими революционерами. После 1 марта 1881 г. по совету обер-прокурора К.П. Победоносцева был назначен Александром III на пост петербургского градоначальника для борьбы с «Народной волей». По его распоряжению проводились многочисленные аресты, а с целью «привлечения к охране лиц из состава населения» Баранов учредил при градоначальстве особый выборный «совет двадцати пяти» (в публике стал известен под именем «бараньего парламента»), не давший никаких результатов и вскоре распущенный. Уже в августе 1881 г. он был снят со своего поста.
[XXII] Г. М. Гельфман была переведена в Дом предварительного заключения из Трубецкого бастиона для родов, так как в Петропавловской крепости отсутствовала санитарная часть. Предполагалось, что после отнятия у нее ребенка Гельфман вернут в Трубецкой бастион. Однако сделать это не удалось из-за тяжелого состояния Г. М. Гельфман.
Опубликовано в книге: «Народная Воля» перед царским судом. М.: Издательство Общества политкаторжан, 1930.
Комментарии научного редактора: Роман Водченко.
Анна Васильевна Якимова (по мужу – Диковская) (1856–1942) – русская революционерка. Родилась в Вятской губернии в семье сельского священника; с 1873 года – сельская учительница в Вятской губернии, вела пропаганду среди крестьян. Арестована в мае 1875 года как участница «хождения в народ», подсудимая на «Процессе 193-х», оправдана (освобождена в январе 1878 года). Вступила в организацию «Земля и воля» и после ее раскола стала членом Исполнительного комитета «Народной воли».
В 1878 году работала в Сормове на пристани на разгрузке дров и позже – чернорабочей на Сормовском заводе. Весной 1879 года стала членом боевой группы «Свобода или смерть», предшественницы «Народной воли». Хозяйка первой динамитной мастерской «Народной воли» (Петербург, Басковый переулок, 1879 год). Принимала прямое участие в подготовке ряда покушений на Александра II (в 1879 году под Александровском, в 1880 году в Петербурге и Одессе, в 1880-1881 годах в Петербурге).
Арестована в Киеве 21 апреля 1881 года, на «Процессе 20-ти» в 1882 году приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В 1883 году переведена из Петропавловской крепости на Кару, а затем в Акатуй. В 1899 году вышла на поселение в Чите (бессрочная каторга для женщин была заменена срочной по случаю коронации Николая II). В 1904 году бежала из Сибири в Европейскую часть России, перешла на нелегальное положение, вступила в партию эсеров.
В августе 1905 года арестована в Орехове-Зуеве, заключена в Петропавловскую крепость, оттуда выслана в Читу, приговорена за побег к 8 месяцам тюрьмы без зачета предварительного заключения. Подвергалась преследованиям за работу в политическом Красном Кресте и в связи с подозрениями в причастности к деятельности эсеров.
Осенью 1917 года переехала из Читы в Москву, работала в различных кооперативных учреждениях, в частности в Центросоюзе. Активный член Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Умерла в эвакуации в Новосибирске.