 |
Аннотация
Более 75 лет назад Святейший синод Российской православной церкви опубликовал свое определение об отпадении (точнее, отлучении) от церкви великого русского писателя и мыслителя Льва Николаевича Толстого.
Это выступление церкви было воспринято современниками как одно из проявлений извечной борьбы религии и политической реакции с наукой, мыслями и деяниями передовых людей, всей мощью своего гения потрясавших вековые устои реакции и религиозного мракобесия.
Весть об отлучении Толстого облетела весь мир и вызвала волну возмущения не только в России, но и за рубежом.
Использовав хранящиеся в фондах Государственного музея Л. Н. Толстого материалы, в свое время недоступные для широкого ознакомления, официальные документы из архивов, открытых после Великой Октябрьской социалистической революции, воспоминания и дневники близких и друзей писателя, автор предлагает вниманию читателей историю отлучения Льва Толстого от церкви.
В заключение считаю своим приятным долгом принести глубокую благодарность коллективу научных сотрудников Государственного музея Л. Н. Толстого и доктору филологических наук, профессору Константину Николаевичу Ломунову, оказавшим мне дружескую помощь в создании этой книги.
 |
Эпоха, к которой принадлежит Л. Толстой и которая замечательно рельефно отразилась как в его гениальных художественных произведениях, так и в его учении, есть эпоха после 1861 и до 1905 года. Правда, литературная деятельность Толстого началась раньше и окончилась позже, чем начался и окончился этот период, но Л. Толстой вполне сложился, как художник и как мыслитель, именно в этот период, переходный характер которого породил все отличительные черты и произведений Толстого и «толстовщины».
В. И. Ленин
Биография Толстого — это большой самостоятельный труд, ни в какой мере не вмещающийся в рамки повествования об отдельном эпизоде в его жизни — церковном отлучении, поэтому автор позволяет себе воспользоваться фрагментами из очерка «Лев Толстой — человек», написанного современником и другом Толстого, его секретарем Н. Н. Гусевым еще в 1928 году.
«Лев Толстой прожил долгую жизнь, он скончался на восемьдесят третьем году. Многое испытал Толстой в своей жизни. Он был и студентом... и военным... и писателем-художником, и путешественником, и сельским хозяином, и педагогом, и семьянином, и общественным деятелем, и философом, и проповедником, и обличителем неправды существующего насильнического общественного строя.
...Писать Толстой начал в двадцать два года.
...В возрасте тридцати четырех лет Толстой женился на дочери московского врача, Софье Андреевне Берс, и почти безвыездно поселился в своем имении Ясная Поляна. Его занятия — литературный труд, сельское хозяйство и воспитание детей».
В этот период (1862—1877) художественное творчество Толстого достигло апогея («Казаки», «Война и мир», «Анна Каренина», «Холстомер»). И. С. Тургенев дал следующую характеристику творчеству Толстого тех лет: «Главное достоинство Толстого состоит именно в том, что его вещи жизнью пахнут».
«Когда Толстому было уже около пятидесяти лет, произошел резкий перелом в его миросозерцании. Его мучили основные проблемы бытия: о смысле жизни, о смерти, добре и зле. Кроме того, у него появилось сознание нравственной незаконности своего положения богатого помещика, среди нищеты окружающих его бедняков крестьян...
Вся жизнь его изменилась. “Я отрекся от жизни нашего круга”, — писал Толстой в своей “Исповеди”.
“Все, что прежде казалось мне хорошим и высоким, — почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, внешних приемов, — все это стало для меня дурным и низким. Все же, что казалось дурным и низким, — мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов — все это стало для меня хорошим и высоким”.
...В связи с изменением миросозерцания изменяется и характер литературной деятельности Толстого.
На свой талант он смотрит не как на средство достижения личных целей, а как на орудие, данное ему свыше для служения человечеству. Теперь Толстой в своих многочисленных статьях и художественных произведениях борется с существующим злом и неправдой, обличает насилие и деспотизм власти, угнетение трудового народа помещиками и капиталистами, протестует против готовящихся и совершающихся войн, называя войну “самым ужасным злодеянием, какое только может совершить человек”. Он обличает обман господствующей церкви, утверждая, что учение церкви есть “теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание грубых суеверий и колдовства”. Вместе с тем Толстой призывал каждого человека к нравственному обновлению, к борьбе со своими недостатками, к сознанию своей нравственной ответственности за все свои поступки. Всей душой ненавидя существующий в его время в России (да и во всех странах) насильнический общественный строй, Толстой тем не менее утверждал, что для создания нового общественного строя необходимо нравственное перерождение людей...
Авторитет Толстого все более и более возрастал. Все больше и больше людей обращалось к нему лично и письменно за разрешением самых разнообразных религиозных, философских, нравственных, общественно-политических, литературных, эстетических, педагогических и многих других вопросов. После Толстого осталось до десяти тысяч писем его к разным лицам; большинство из них относится ко второму периоду его жизни и творчества.
...В Ясной Поляне и в Москве у Толстого сходились люди самых различных воззрений и самого противоположного социального положения.
...Авторитет Толстого был так велик, что, хотя он писал и печатал за границей за своей подписью самые резкие и сильные статьи против существующего строя и против господствующей церкви, самодержавное правительство не решалось его преследовать.
...Но тех, кто распространял запрещенные статьи Толстого против государства и церкви, правительство сажало в тюрьмы и отправляло в ссылку. Толстой очень тяжело переносил то, что за его статьи подвергались преследованию близкие ему люди, в то время как он оставался на свободе... Не раз писал он заявления министрам и другим правительственным лицам, что он просит обратить против него, как против автора запрещенных статей все меры преследования. “Тем более, — писал он в 1896 году министру внутренних дел и министру юстиции, — что я вперед заявляю, что буду продолжать до самой смерти делать то дело, которое правительство считает преступлением, а я считаю своей священной перед богом обязанностью”. Но и это заявление Толстого не произвело перемены в отношении к нему правительства» [1].
Здесь можно было бы сказать: «пока не произвело», потому что через пять лет, в 1901 году, правительство «переменило отношение» и через Святейший синод выступило против Толстого. О том, как это произошло и какой неожиданный эффект вызвало отлучение Толстого от церкви, читатель узнает в следующих главах.
Толстой с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную науку.
В. И. Ленин
К 80-м годам прошлого века у Толстого вполне созрел перелом во взглядах на жизнь, на ее нравственные основы, на религию, на общественные отношения, который позднее углублялся, находя отражение во всем том, что он писал.
В эти годы им написаны такие произведения, как «Исповедь», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», в 90-е годы — «Царство божие внутри вас».
В «Исследовании догматического богословия» (1884 г.), содержащем резкое осуждение догматов православной церкви, изложенных в книге доктора богословия московского митрополита Макария «Православно-догматическое богословие», Толстой писал: «Православная церковь? Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженых людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженых людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ» [2].
Беспощадной критике религиозной догматики, церковной обрядности, беспринципности, алчности представителей духовенства, особенно в его высших сферах, посвящены многие страницы художественных и публицистических произведений Толстого.
Писатель считал, что церковь является рассадником невежества и суеверий в народных массах. Свое отношение к официальной религии он определил в письме к А.А. Толстой [3] 4 марта 1882 года: «Я ведь в отношении православия — вашей веры, нахожусь не в положении заблуждающегося или отклоняющегося, я нахожусь в положении обличителя».
Толстому внушало глубокое отвращение фарисейство правящей церковной верхушки. Ее олицетворением в главах писателя была мрачная фигура Победоносцева, обер-прокурора Святейшего синода, представлявшего там интересы царствующего дома, вдохновлявшего на протяжении четверти века политическую реакцию и религиозное мракобесие, приложившего немало усилий к тому, чтобы даже от призрачных либеральных реформ времен царствования Александра II в скором времени не осталось и воспоминания.
С гневом и презрением писал о нем Толстой в письме царю Николаю II в начале декабря 1900 года: «Из всех этих преступных дел самые гадкие и возмущающие душу всякого честного человека, это дела, творимые отвратительным, бессердечным, бессовестным советчиком вашим по религиозным делам, злодеем, имя которого, как образцового злодея, перейдет в историю — Победоносцевым».
В романе «Воскресение» Толстой изобразил Победоносцева тупым фанатиком, человеком безнравственным, лжецом, лицемером и ханжой:
«...Топоров (под этим именем выведен в романе Победоносцев. — Г. П.), как и все люди, лишенные основного религиозного чувства, сознанья равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние, и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ.
Так же, как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтобы их варили живыми, он вполне был убежден, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом, — думал и говорил, что народ любит быть суеверным.
Он относился к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которою он кормит своих кур: падаль очень неприятна, но куры любят и едят ее, и потому их надо кормить падалью.
Разумеется, все эти Иверские, Казанские и Смоленские — очень грубое идолопоклонство, но народ любит это и верит в это, и поэтому надо поддерживать эти суеверия. Так думал Топоров...» [4].
От отрицания церкви, ее идеологов и служителей писатель делает естественный шаг к отрицанию самодержавия, его установлений и институтов. С особой силой этот протест прозвучал в романе «Воскресение». Обличительная сила романа была исключительно велика, несмотря на то, что текст его, печатавшийся в петербургском журнале «Нива» А. Ф. Маркса [5] за 1899 год, подвергся многим цензурным исправлениям и изъятиям.
Это злободневное произведение раскрыло во всей своей неприглядности современную русскую действительность — «обнищавшее крестьянство, тюремные этапы, мир уголовных, русское сектантство, сибирскую ссылку... обличение суда, церкви, администрации, аристократической верхушки русского общества и всего государственного и общественного строя царской России...
Все, что до тех пор писал Толстой, как проповедник-обличитель, все, против чего он выступал, как моралист и публицист, нашло в “Воскресении” свое наиболее художественное выражение. Ни одно из предшествующих художественных созданий Толстого не было проникнуто таким страстным протестом против современной ему капиталистической действительности, как “Воскресение”» [6].
В романе с гневным пафосом показано неправедное царское судопроизводство, бесчеловечная система угнетения и подавления народа.
Толстой широко изобразил кричащие социальные противоречия русской жизни, взяв прототипами многих отрицательных персонажей романа реальных лиц из числа высокопоставленных сановников — и духовных и светских. Так, в образе флигель-адъютанта Богатырева изображен помощник командующего главной царской квартиры граф Д. В. Олсуфьев. Прототипом графа Чарского послужил крайний реакционер граф Шувалов. Прототипом Червянского — П. В. Оржевский, командир корпуса жандармов и товарищ министра внутренних дел. Через эти мрачные образы раскрывалась крайняя деспотичность и несправедливость самодержавия, прослеживалась его историческая обреченность.
Непримиримость к существующему государственному строю, негодующий протест против притеснений и насилий проходят красной нитью через все творчество Толстого, как и глубокое уважение и любовь к народу, униженному и забитому царизмом.
«Во всем том, в чем Толстой критикует существующую церковь, существующее самодержавие, — писал А. В. Луначарский, — во всем этом он глубоко прав. Он перед судом своего неподкупного сердца, с гигантским проникновением своего таланта, с потрясающей силой своего гения представляет нам смешными, нелепыми, отвратительными все порядки государства, все порядки церкви... со всего этого он снимает ризы, которыми оно прикрывалось, и с такой остротой критикует, что мы говорим: да ведь это же в самом деле глупость, это вздор, борись, человек, против этого...» [7].
Но Толстой не только «снимал ризы» как писатель и публицист. В своих письмах Александру III, а затем Николаю II он решительно протестовал против всяческих проявлений произвола и насилия самодержавного режима, что тоже требовало немалой гражданской смелости.
Многообразна общественная деятельность Толстого, направленная на устранение или ослабление вреда, причиняемого народу бездушием и косностью правителей.
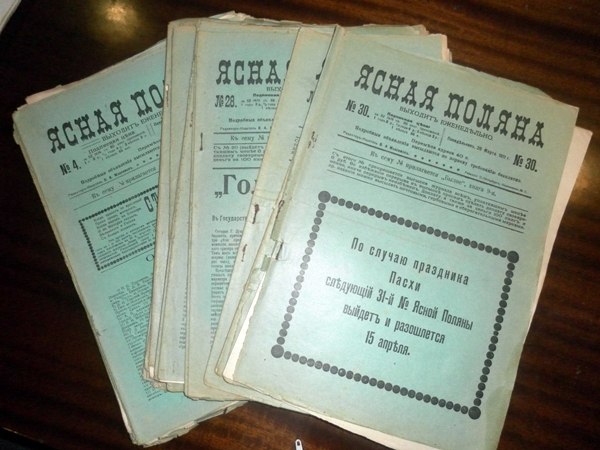 |
«Я начал свою общественную деятельность со школы и обучения», — писал Толстой, имея в виду работу в Яснополянской школе, открытой им на свои средства в 1859 году, после того как он убедился в полном равнодушии царского правительства к вопросам народного образования и обучения крестьянства грамоте.
В 1861—1862 годах по его инициативе была открыта еще 21 начальная школа для крестьянских детей.
В 1861 году Толстой основал журнал «Ясная Поляна», освещавший как вопросы педагогики, так и многие стороны жизни народа в России.
В том же году он назначается участковым мировым посредником Крапивенского уезда. Эта должность была учреждена для разбора спорных дел между помещиками и освобожденными от крепостной зависимости крестьянами. Деятельность писателя на новом поприще вызвала резкое недовольство дворян-помещиков, так как в спорных вопросах он принимал сторону крестьян, разоблачал козни, злоупотребления и произвол помещиков, боролся против применения телесных наказаний к крестьянам, требовал привлечения к ответственности помещиков и их управляющих. «Посредничество поссорило меня со всеми помещиками окончательно», — вскоре записывает Толстой в своем дневнике, а в апреле 1862 года он был вынужден просить об освобождении его от должности посредника.
В 1873 году Толстой немало сил отдал борьбе с голодом, разразившимся в Самарской губернии.
В 1891—1892 годах писатель снова принимал участие в помощи голодающим крестьянам. На собственные деньги и на поступавшие по его призыву со всех концов России и из-за границы средства он открыл в Рязанской и Тульской губерниях 246 столовых, где кормились тысячи крестьян, особенно стариков и детей, и 127 приютов для детей. Его статьи «Страшный вопрос», «Письма о голоде» и ряд других всколыхнули всю Россию. В них звучал гневный голос самого крестьянства, ограбленного эксплуататорами и доведенного до голодной смерти...
В 1901 году в своей записной книжке Толстой отметил: «Счастливые мои эпохи были только тогда, когда я всю жизнь отдавал служению людям. Это были школы, посредничество, голодающие...» [8].
Но, конечно, главным оружием, вызывавшим и страх и ненависть царизма, оставалось слово гениального художника.
В очерке «Л. Н. Толстой» А. Ф. Кони [9] посвятил Толстому следующие проникновенные строки:
«Путешественники описывают Сахару как знойную пустыню, в которой замирает всякая жизнь. Когда смеркается, к молчанию смерти присоединяется еще и тьма. И тогда идет на водопой лев и наполняет своим рыканьем пустыню. Ему отвечают жалобный вой зверей, крики ночных птиц и далекое эхо — и пустыня оживает. Так бывало и с этим Львом. Он мог иногда заблуждаться в своем гневном искани истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного спокойствия...» [10].
Но вот мертвая Сахара — Россия — ожила.
В конце XIX века на историческую арену вышел народ, готовый на борьбу за право на человеческую жизнь — без царя, помещиков и капиталистов. И в этой ситуации правящие круги не без основания стали усматривать в художественных произведениях и публицистике Толстого сочувствие и поддержку грядущей революции.
Святейшему синоду, не раз пытавшемуся расправиться с писателем, было дано указание свыше открыто выступить с обличением Толстого.
...Большинство вельмож и сановников прошло длинный курс николаевской службы и полицейской выучки, прошло, можно сказать, огонь и воду и медные трубы. Они помнили, как монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых и «спускали» на верноподданных Аракчеевых...
В. И. Ленин
Считая Толстого особо опасным человеком, самодержавие вело тщательный надзор за каждым шагом писателя. Правительственным органам было известно все, что появлялось в печати по поводу его выступлений и о нем самом не только в России, но и за границей. Исходя из этого принимались различные предупредительные меры против Толстого, привлекалась цензура и административно-полицейские органы.
В петербургских и московских архивах сохранилось множество цензурных дел, в которых произведения Толстого запрещались за «богохульство, глумление, издевательство и кощунство над религией», за «проповедь безнравственности», «оскорбления государя-императора», «проповедь анархизма» и т. д. Однако применить крайние меры к писателю царское правительство не решалось.
В 1862 году по ложному доносу приставленного к Толстому сыщика в Ясной Поляне в его отсутствие был произведен обыск, продолжавшийся два дня. Обыск был настолько тщательным, что даже взламывались полы в конюшне, закидывались невода в пруд. Обыску подвергались также организованные Толстым школы. Однако ничего предосудительного полиция не нашла.
В письме к А. А. Толстой писатель с возмущением отзывался о жандармском полковнике, производившем обыск, и прочих «разбойниках», подразумевая под этим всю свору царских чиновников.
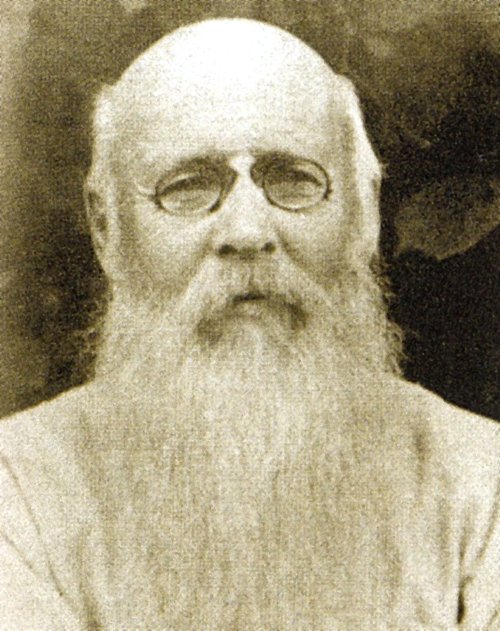 |
Потерпев фиаско с обыском, правительство приняло тактику пассивной обороны, не посягая пока на свободу писателя, отказавшись от применения репрессий к нему. Так, в конце 1887 — начале 1888 года в связи с делом М. А. Новоселова [11], у которого нашли нелегально отпечатанные экземпляры статьи Толстого «Николай Палкин», московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков писал министру внутренних дел: «Думаю, помимо высокого значения его таланта, что всякая репрессивная мера, принятая относительно графа Л. Толстого, окружит его ореолом страданий и тем будет наиболее содействовать распространению его мыслей и учения». Министр, прочитав это заключение Александру III, пометил: «Высочайше поведено принять к сведению» [12].
Остановимся подробнее на «деле Новоселова».
В числе поклонников Толстого, посещавших его хамовнический дом, был филолог М. А. Новоселов. Ему понравилась статья «Николай Палкин», не выпущенная в свет цензурой. Он размножил ее на гектографе и раздавал всем желающим. Об этом пронюхал чиновник судебной палаты Зубатов [13], который решил завести на Новоселова дело.
Зубатов подсылал к Новоселову разных лиц с провокационными предложениями организовать массовую перепечатку «Николая Палкина» и тайную продажу оттисков. Филолога стали приглашать на таинственные свидания. Закончилась эта провокация арестом Новоселова и нескольких его знакомых. Узнав об этом, Толстой отправился в московское жандармское управление с требованием освобождения арестованных указывая на незаконность их ареста, тогда как он, автор статьи и главный виновник, остается на воле. На это начальник жандармского управления генерал Слезкин с любезной улыбкой ответил Толстому: «Граф, слава ваша слишком велика, чтобы наши тюрьмы могли ее вместить». Все же арестованные вскоре были освобождены. Новоселов отделался годом гласного надзора полиции.
Тогда же (1886 г.) в реакционных кругах возникла мысль о заточении Толстого в Суздальский монастырь — старейший монастырь-тюрьму, про которую ходила мрачная слава как о тюрьме-крепости, где условия содержания узников нельзя было сравнить ни с какими иными местами заключения.
По воспоминаниям А. А. Толстой, ему предсказывали Сибирь, крепость, чуть ли даже не виселицу.
* * *
Мысль об отлучении Толстого от православной церкви возникала в церковном мире неоднократно. Указание на это имеется в ряде писем и документов.
Например, близкий к синоду херсонский архиепископ Никанор высказал в письме к Гроту [14] в 1888 году: «Мы без шуток собираемся провозгласить торжественную анафему... Толстому». Говоря «мы», он подразумевал синод, который вынашивал план анафематствования Толстого.
Более откровенно — и уже публично — через три года выступил харьковский протоиерей Буткевич.
Вот что писала по этому поводу газета «Южный край» (Харьков) 5 марта 1891 года:
«2 марта 1891 года в Харьковском соборе в десятую годовщину царствования Александра III священник Т. Буткевич произнес “Слово в день восшествия на Престол Благочестивейшего Государя Императора Александра Александровича”, называемое “О лжеучении графа Л. Н. Толстого”.
Посвятив свое Слово обличению религиозно-философских взглядов Толстого, особо подчеркнув, что Толстой “больше всех волнует умы образованного и необразованного общества своими сочинениями, отличающимися разрушительной силой и растлевающим характером, проповедующими неверие и безбожие”, Буткевич заключает:
“Благочестивейший Государь наш есть основание нашей надежды, что это зло будет пресечено своевременно”, и приводит текст из послания апостола Павла: “Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема”».
Об этом Слове, полностью пересказанном газетой, синод, конечно, не мог не знать, но никак не отозвался, ожидая откликов. Однако передовая общественность подошла к этому наскоку на Толстого как к очередному юродству, свойственному не в меру усердному «верноподданному» иерею, и игнорировала его.
Подобного рода «обличения» Толстого и анафемы ему с каждым годом все учащались, все более находилось «ревнителей» православия, которые, в стремлении быть отмеченными благосклонностью духовного начальства, пользовались всяким удобным случаем подчеркнуть свою инициативу, преданность церкви и «благочестивейшему государю», ожидая «великих и богатых милостей» за свое старание.
Синод всемерно поддерживал эту самодеятельность, хотя прекрасно знал, что всякого рода анафемы, провозглашаемые Толстому распалившимися в пылу ораторского увлечения иереями, не имеют никакой канонической силы.
В конце того же 1891 года, подбирая обличающие материалы для синода, Тульский архиерей посылает в Епифанский уезд двух священников «для исследования поведения» Толстого.
 |
Через три месяца — в марте 1892 года Толстого посещает ректор Московской духовной академии архимандрит Антоний Храповицкий, а через месяц Софья Андреевна [15] писала из Москвы мужу о полученном ею сообщении, что Московский митрополит хочет торжественно отлучить его от церкви.
Казалось, синодом все было подготовлено; обер-прокурор синода К. П. Победоносцев также склонился на сторону синодального большинства. Но все планы рухнули, разбившись о непреклонность Александра III, верного своему обещанию «не прибавлять к славе Толстого мученического венца». Царь, опасаясь взрыва негодования, воспротивился открытому, идущему сверху преследованию Толстого. Синод был вынужден отступить, отложив церковную расправу с Толстым до благоприятного момента.
После смерти Александра III синод вновь ставит на очередь вопрос об отлучении Толстого: в 1896 году в письме к Рачинскому [16] Победоносцев сообщает о необходимости отлучения Толстого.
В сентябре 1897 года к Толстому посылается тульский тюремный (!) священник Дмитрий Троицкий со специальной миссией — склонить его к возвращению в православие. Посещение Толстого Троицким ни к чему не привело.
В ноябре 1899 года харьковский архиепископ Амвросий составил проект постановления синода об отлучении Толстого от церкви, но решение по этому проекту принято не было.
* * *
В начале 1900 года газеты разнесли весть о болезни Толстого. Тотчас же первоприсутствующий член синода митрополит Иоанникий разослал по всем епархиям циркулярное секретное письмо «О запрещении поминовения и панихид по Л. Н. Толстом в случае его смерти без покаяния».
Приводим этот документ полностью, как образец циничности и глумления над живым писателем!
«Конфиденциально
Преосвященнейший владыко
Милостивый архипастырь
В собрании отцев членов Святейшего Синода возбужден был вопрос, могут ли епархиальные преосвященные, в случае смерти графа Льва Толстого, разрешить совершение по нем панихид и заупокойных литургий. Святейший Синод в заботах об утверждении мира Православной Всероссийской Церкви и устранении соблазна признал благовременным разрешить сей вопрос, ибо кончина графа Толстого может дать повод многочисленным его почитателям, часто только по слухам знакомым с его воззрением, просить приходских священников совершить по нем панихиду и заупокойную литургию и последние, по неведению, могут исполнить их желание. Между тем граф Лев Толстой в многочисленных своих сочинениях, в коих он выражает свои религиозные воззрения, ясно показал себя врагом Православной Христовой Церкви. Единого Бога в трех лицах он не признает, второе лице Святые Троицы — Сына Божия, называет просто человеком, кощунственно относится к тайне воплощения Бога Слова, искажает священный текст Евангелия, Святую Церковь порицает, называя Ее человеческим установлением, церковную иерархию отрицает и глумится над Святыми Таинствами и обрядами святой Православной Церкви. Таковых людей Православная Церковь торжественно, в присутствии верных своих Чад, в Неделю православия объявляет чуждыми церковного общения (курсив мой. — Г. П.). Посему совершение панихиды или заупокойной литургии по графе Льве Толстом, в случае его смерти без покаяния и примирения с церковью, несомненно смутит совесть верных чад Святой Церкви и вызовет соблазн, который должен быть предупрежден.
Ввиду сего Святейший синод постановил воспретить совершение поминовения, панихид и заупокойных литургий по графе Льве Толстом, в случае его смерти без покаяния, о чем и поручил мне сообщить епархиальным преосвященным.
Вашего Преосвященства возлюбленнейшего о Господе брата, покорнейший слуга».
Это выступление синода против Толстого было первым официальным, хотя и секретным нападением церкви.
Второй шаг в этом направлении — отлучение — был сделан открыто, во всеуслышание — с целью поднять темные массы против Толстого, используя для этого церковную и гражданскую прессу, церковные амвоны и прочие средства из церковного и административно-полицейского арсенала.
* * *
Чем шире становился диапазон общественной деятельности Толстого, чем больше привлекал он в помощь себе молодежь, студенчество, тем больше росло недовольство в правящих и церковных кругах, усматривающих в его деятельности укор своему безразличию к народным нуждам. Церковники прямо заявляли: у церкви нет более опасного врага, чем Толстой.
«Мелкие газетки, проникавшие в деревню, вроде “Свита”, “Сына Отечества”, “Московского листка”, в своем лакейском усердии перед высшими кругами выставляли его как колебателя основ. Особенно яростны были нападения на Толстого со стороны херсонского архиепископа Никанора, книжки которого усердно распространяло духовенство. Главным образом он обрушивался на Толстого за “Крейцерову сонату”, применял к нему тексты из евангелия и причислял его к породе волков в овечьей шкуре и советовал его истребить, так как его учение расшатывает весь строй» [17].
Духовенство не спускало глаз с Толстого, всемерно препятствуя его общественной и просветительской деятельности. С благословения высших иерархов сельские священники цинично и грубо вмешивались в деятельность Толстого, его единомышленников и сотрудников, не останавливаясь перед провокацией, чтобы сорвать их работу.
Обратимся к воспоминаниям современников Толстого.
 |
В записках В. М. Бонч-Бруевич [18] о работе в голодный год (1891—1892 гг.) в отряде Л. Н. Толстого рассказывается, как местное духовенство, озлобленное успешной деятельностью отрядов Л. Н. Толстого, пыталось натравить темные крестьянские массы на самоотверженную молодежь, работавшую по деревням и селам, объявляя о них с церковного амвона, что они — «антихристовы дети», подразумевая под антихристом самого Льва Толстого. «Духовные пастыри» задумали черное дело: поднять ослабевший от голода и нужды крестьянский люд на разгром отрядов Толстого и физическое уничтожение писателя, не считаясь с тем, что крестьяне потом окажутся совсем лишенными помощи.
«Совершенно непросвещенные, почти поголовно безграмотные, страшно изголодавшиеся крестьяне Рязанской губернии, — рассказывает В. М. Величкина, — не поверили злоязычной клевете духовенства». Относясь к Л. Н. Толстому с особенным почтением, они передали Величкиной обо всем, чему их подучало духовенство, и просили по-старому продолжать работу. Так благополучно разрешился подготовляемый духовенством погром организаций Толстого, занимавшихся помощью голодающим крестьянам [19].
Попытки духовенства препятствовать деятельности Толстого, развернувшего громадную работу по сбору средств и организации питания голодающих, вызывают чувство глубокого возмущения действиями «отцов» церкви даже теперь, когда через много лет перечитываешь страницы, повествующие о страшном бедствии — голоде, так часто посещавшем тогда бедную, нищую, убогую деревню.
Однако у духовенства находились и светские последователи.
С. Т. Семенов [20] записал в своих воспоминаниях, что Лев Николаевич был возмущен тем, «как одна религиозная барыня в Петербурге проповедовала, что помогать голодающим не нужно, ибо голод послал бог, в наказание людям, и облегчать это наказание — значит идти против воли бога. Он видел в этой проповеди высшую степень фарисейства» [21].
Эта барынька с каннибальской идеологией была характерным представителем своего класса, чуждого бедам и горестям народа, на труде которого они строили свое благополучие и к судьбе которого были абсолютно равнодушны.
* * *
Многолетние преследования, конечно, не могли не причинять боли и огорчений писателю. Однако, несмотря на увещевания и угрозы, Лев Толстой смело и энергично обличал все то, что считал причиной бедственного положения народа. Ничто не могло заставить замолчать великого писателя: «Его устами говорила вся та многомиллионная масса русского народа, — писал В. И. Ленин, — которая уже ненавидит хозяев современной жизни, но которая еще не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними» [22].
Интересно отметить, что В. И. Ленин был в свое время сильно возмущен «дерзостью попов», решившихся предать публичной анафеме Толстого. «Смешно, — говорил он, — что эти чиновники в рясах “отлучают” Толстого от церкви, из которой он сам, — как и все здравомыслящие люди, — давным-давно ушел. Но эта анафема, эта травля гениального писателя с десятков тысяч амвонов церквей, это подуськивание темных черносотенных элементов на прямое насилие — омерзительно и ужасно».
В. Бонч-Бруевич
Вышедший в свет в 1899 году роман «Воскресение» привел в негодование и замешательство правительственные и высшие церковные круги. Церковники особенно настойчиво потребовали расправы с писателем. Назначение в 1900 году первоприсутствующим в синоде Антония, неоднократно ранее пытавшегося ускорить церковную расправу с Толстым, крайнее озлобление обер-прокурора Победоносцева, узнавшего себя в омерзительной фигуре Топорова, — все это ускорило приготовления к отлучению Толстого. Победоносцев добился согласия царя. Синод получил свободу действий.
 |
11 февраля 1901 года митрополит Антоний писал Победоносцеву: «Теперь в синоде все пришли к мысли о необходимости обнародования в “Церковных Ведомостях” Синодального суждения о графе Толстом. Надо бы поскорее это сделать. Хорошо было бы напечатать в хорошо составленной редакции синодальное суждение о Толстом в номере “Церковных Ведомостей” будущей субботы, 17 февраля, накануне Недели православия. Это не будет уже суд над мертвым, как говорят о секретном распоряжении (имеется в виду циркулярное письмо синода 1900 г. о запрещении отпевания Толстого. — Г. П.), и не обвинение без выслушания оправдания, а “предостережение” живому...» [23].
24 февраля 1901 года, с опозданием на семь дней против задуманного срока, «Церковные Ведомости при Святейшем Правительствующем Синоде» опубликовали «Определение Святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 года о графе Льве Толстом», а на следующий день, в воскресенье 25 февраля, газеты вышли с полным текстом этого определения на первых полосах, на самом видном месте под жирным заголовком «Определение Св. Синода» — без каких-либо комментариев. Только некоторые газеты, как, например, «Русское слово» и даже «Московские ведомости» [24], поместили Определение в рубрике «Телеграммы Русского телеграфного агентства», среди прочих известий, на самом скромном месте.
Газета «Полтавские губернские ведомости» привела определение синода в кратком изложении, подчеркнув этим свою отрицательную оценку этого акта. Видимо, в данном случае имело место влияние В. Г. Короленко, пользовавшегося в Полтаве, где он в то время жил, большой популярностью.
Приводим текст Определения синода:
«Определение Святейшего Синода от 20—22 февраля 1901 г., № 557, с посланием верным чадам православные грекороссийские церкви о графе Льве Толстом [25].
Святейший синод в своем попечении о чадах Православной церкви, об охранении их от губительного соблазна и о спасении заблуждающихся, имев суждение о графе Льве Толстом и его противохристианском и противоцерковном лжеучении, признал благовременным, в предупреждение нарушения мира церковного, обнародовать через напечатание в “Церковных ведомостях” нижеследующее свое послание:
Божиею милостию Святейший Всероссийский Синод верным чадам Православные Кафолические Грекороссийские Церкви о Господе радоватися...
“Молим вас, братие, блюдитеся от творящих распри и раздоры, кроме учения, ему же вы научитеся, и уклонитеся от них”. Изначала Церковь Христова терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, которые стремились ниспровергнуть ее и поколебать в существенных ее основаниях, утверждающихся на вере в Христа, Сына Бога Живого. Но все силы ада, по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви святой, которая пребудет неодоленною во веки. И в наши дни Божиим попущением явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой; в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской: отвергает личного живого Бога во святой Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной, отрицает Господа Иисуса Христа — Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мертвых; отрицает бессемейное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из Таинств, святую Евхаристию. Все сие проповедует граф Лев Толстой непрерывно, словом и писанием к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем не прикровенно, но явно перед всеми, сознательно и намеренно отторг себя от всякого общения с Церковию Православною. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствует перед всей Церковию к утверждению правостоящих и к вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению самого графа Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбию помышляют о том, что он на конце дней своих остается без веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв Церкви и от всякого общения с нею.
Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние и разум истины. Молимтися милосердный Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй, и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь.
Подлинное подписали:
Смиренный Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладожский
Смиренный Феогност, митрополит Киевский и Галицкий
Смиренный Владимир, митрополит Московский и Коломенский
Смиренный Иероним, архиепископ Холмский и Варшавский
Смиренный Иаков, епископ Кишиневский и Хотинский
Смиренный Маркелл, епископ Смиренный Борис, епископ».
Через четырнадцать лет В. Скворцов на страницах издаваемой им в Петрограде церковной газеты «Колокол» от 10 ноября 1915 г. в очерке «К истории отлучения Л. Н. Толстого» описал предысторию отлучения, из которой мы приводим наиболее интересные строки:
«...Митрополит Антоний, лично иерарх чуткой души, добрый и великодушный, но совершенно человек не инициативы и не борьбы: про безволие владыки покойный Победоносцев в минуту досады выражался весьма решительно и малоуважительно: “кто нашего митрополита, как (метлу. — Г. П.) в руки возьмет, тот и метет...”
Во всяком случае, инициатива об издании синодского акта 20—22 февраля 1901 г. исходила от митрополита Антония и совершенно неожиданно и в настойчивой форме.
Помню, кажется, 18 февраля потребовал меня к себе В. К. Саблер [26] и передал мне совершенно доверительное поручение обер-прокурора немедленно составить доклад с точным изложением системы религиозного лжеучения Л. Толстого. Причем добавил, что Св. Синод предполагает издать послание в ограждение верных чад Церкви от увлечения Толстовской ересью.
...Доклад было мне нетрудно составить и, кажется, в тот же вечер я его передал В. К. Саблеру, а последний направил его к К. П. Победоносцеву.
В историческом деле канцелярии Св. Синода об отпадении гр. Толстого от Церкви должны иметься три документа, относящихся к этому делу: 1) мой доклад с изложением учения Толстого, 2) собственноручно написанный К. П. Победоносцевым проект синодального послания и 3) исправленная митрополитом Антонием и другими членами Св. Синода редакция послания по определению Св. Синода от 20—22 февраля № 557, появившегося в “Церковных Ведомостях”.
Сделанные иерархами синода исправления были направлены к смягчению тона и содержания послания, с тем, чтобы оно имело характер не отлучения от Церкви, а засвидетельствования об отречении Льва Толстого от православия и отпадения его от Церкви, а также призыва к покаянию.
Для окончательного установления редакции потребовалось целых два заседания. Акт был подписан 7 иерархами, из которых ныне здравствуют только митрополит Владимир и архиепископ Иаков Казанский.
Акт был опубликован в “Церковных Ведомостях”, почетный экземпляр каковых был препровожден обер-прокурором в высокие сферы, впервые тогда осведомившиеся об этом историческом шаге, самостоятельно предпринятом высшею церковною властью».
Скворцов не связал концы с концами. С одной стороны, Антоний обладал «чуткой душой», был «добрым, великодушным» и настолько неинициативным, что Победоносцев сравнивал его с метлой, которую кто «в руки возьмет, тот и метет». С другой стороны, Скворцов вынужден был признать, что именно Антоний «совершенно неожиданно и в настойчивой форме» потребовал церковной расправы над Толстым.
Далее. Два заседания семь иерархов мучились над текстом отлучения, для того чтобы сделать его непохожим на отлучение, но как ни старались «святые отцы», их определение было всеми понято и принято только как отлучение и ни в коем случае не как отпадение; Кстати сказать, церковники впоследствии сами отказались от этой маскировки и уже официально называли этот акт отлучением.
И наконец, не считая двух «здравствующих» старцев Владимира и Иакова, все остальные, причастные к определению Синода о Толстом, умерли. Но Николай II был жив. И поэтому Скворцов повествует, что «почетный экземпляр» определения синода был препровожден «в высокие сферы (т. е. царю. — Г. П.), впервые тогда осведомившиеся об этом историческом шаге самостоятельно предпринятом высшею церковною властью». По версии Скворцова, пытавшегося выгородить царя, Николай II якобы не знал о готовящемся отлучении Толстого. В действительности же Победоносцев получил согласие царя на это выступление церкви, кроме того, по положению о синоде, действовавшему еще со времен Петра I, никаких «исторических шагов» без предварительной санкции царя как главы церкви и его представителя — обер-прокурора синод самостоятельно предпринимать не имел права. Всякие попытки синода проявить самостоятельность всегда пресекались самым решительным образом.
Итак, инициатива издания этого акта исходила от митрополита Антония. Текст определения был написан непосредственно самим Победоносцевым, а затем отредактирован Антонием вместе с другими членами синода и одобрен царем.
Примечательно, что определение составлено в крайне осторожных выражениях. Подчеркивая огромный и непререкаемый авторитет Льва Толстого, авторы текста не решились открыто заявить об отлучении его от церкви, но лицемерно свидетельствовали об «отпадении его от церкви» и, как мы увидим далее, не раз пытались использовать эту формулу отлучения для защиты себя от упреков возмущенной общественности.
Хотя определение заканчивается словами молитвы о возвращении Толстого в лоно церкви, не остается никакого сомнения в подлинных намерениях синода — поднять на Толстого темную массу религиозных фанатиков-изуверов, способных на самое бесчеловечное и жестокое преступление «во имя божие».
Последующие события подтвердили это: тотчас же после опубликования текста отлучения с благословения синода с церковных амвонов полился поток злобных и оскорбительных эпитетов, выкриков и угроз в адрес писателя, и чем выше был ранг иерархов, тем яростнее громили они «дерзко восставшего на господа лжеучителя», разжигая и распаляя низменные инстинкты толпы призывом всяческих бед и несчастий на голову Толстого.
И не только с амвонов, но и со страниц церковных, реакционных и черносотенных газет и журналов на Толстого, как из рога изобилия, посыпались обвинения во всех смертных грехах и несовместимые со здравым смыслом выдумки.
Остановимся на одном из таких «писаний», опубликованном на страницах «Тульских епархиальных ведомостей» за подписью Михаила С-ко:
«Замечательное явление с портретом графа Л. Н. Толстого.
Многими лицами и в том числе пишущим сии строки замечено удивительное явление с портретом графа Л. Н. Толстого. После отлучения Толстого от церкви определением богоучрежденной власти выражение лица графа Толстого приняло чисто сатанинский облик: стало не только злобно, но свирепо и угрюмо...
Впечатление, получаемое от портрета гр. Толстого, объяснимо только присутствием около его портретов нечистой силы (бесов и их начальника диавола), которым усердно послужил во вред человечества трехокаянный граф».
Кто же скрывался под псевдонимом «С-ко»?
Автором заметки был сын московского адвоката М. А. Сопоцько, в прошлом толстовец. Нам еще не раз придется сталкиваться с образчиками его выступлений против Толстого, в которых, пресмыкаясь перед начальством, он не останавливался ни перед подлостью, ни перед глумлением.
За участие в студенческой демонстрации по поводу смерти Чернышевского Сопоцько был исключен из Московского университета и выслан в Вологду. С этого времени он начинает переписываться с Толстым, затем, по освобождении, принимает участие в работе толстовских организаций помощи голодающим, становится деятельным и ревностным сотрудником.
В 1895 году Сопоцько был вновь арестован по подозрению в распространении среди крестьян революционных взглядов, заключен в тюрьму, а затем выслан в Вологодскую губернию.
Ссылка подействовала на Сопоцько удручающим образом. Он впал в мистицизм, вернулся к православию и, отказавшись от всякого общения с Толстым, выступил против него. Этот категорический переход от толстовства к православию содействовал освобождению Сопоцько из ссылки. В 1896 году он поступил в Муромский монастырь, чтобы там, по его словам, «окрепло и как сталь закалилось в огне послушнических скорбей, трудов и унижений» его православие. В этом же году он послал Толстому угрожающее письмо: «Если не обратитесь от неверия к вере Христовой, которая истинная, а не ложная (“православная”), то гнев божий над вами».
Вскоре, по указанию Победоносцева, в конце 1896 года, в приложении к «Церковным ведомостям» выпускается книжка: «Плоды учения гр. Л. Н. Толстого», в которой в числе «нескольких писем одного бывшего в числе самых ревностных учеников его» приведены письма Сопоцько к Черткову [27] и Толстому. Зарабатывая себе прощение, Сопоцько идет на все, становится псаломщиком, затем миссионером, затем мелким служащим в петербургской духовной консистории и т. д.
Наконец прощение получено. Он снова в высшем учебном заведении — Юрьевском университете, уже член Союза русского народа и деятельный сотрудник черносотенной газеты «Русское знамя».
Во время первой мировой войны Сопоцько был военным врачом. В 1917 году эмигрировал за границу. Дальнейшая судьба его неизвестна...
Конечно, Сопоцько не заслуживал бы того внимания, которое ему здесь уделено, если бы он был одинок. Среди интеллигентиков-либералов того времени нередко встречались личности, торговавшие своей совестью ради прощения ведомством внутренних дел «грехов молодости».
* * *
Ту зиму семья Толстых проводила в Москве в своем доме в Хамовническом переулке [28]. Известие об отлучении было получено вместе с очередными номерами свежих газет, а вместе с ним в тихий переулок устремился людской поток, пошли пачки писем, телеграмм.
Вот что записала 6 марта в своем дневнике С. А. Толстая:
«Пережили много событий, не домашних, а общественных. 24 февраля [29] было напечатано во всех газетах отлучение от церкви Льва Николаевича...
Бумага эта вызвала негодование в обществе, недоумение и недовольство среди народа. Льву Николаевичу три дня подряд делали овации, приносили корзины с живыми цветами, посылали телеграммы, письма, адресы. До сих пор продолжаются эти изъявления сочувствия Л. Н. и негодование на Синод и митрополитов. Я написала в тот же день и разослала свое письмо Победоносцеву и митрополитам... В то же воскресенье — 24 февраля, Лев Николаевич шел с Дунаевым [30] по Лубянской площади [31], где была толпа в несколько тысяч человек. Кто-то, увидав Льва Николаевича, сказал: “Вот он, дьявол в образе человека”. — Многие оглянулись, узнали Льва Николаевича, и начались крики: “Ура, Лев Николаевич, здравствуйте, Лев Николаевич! Привет великому человеку! Ура!” Толпа все прибывала, крики усиливались; извозчики убегали... Наконец, какой-то студент-техник привел извозчика, посадил Льва Николаевича и Дунаева, а конный жандарм, видя, что толпа хватается за вожжи и держит под уздцы лошадь, вступился и стал отстранять толпу.
Несколько дней продолжается у нас в доме какое-то праздничное настроение; посетителей с утра до вечера — целые толпы» [32].
Письмо С. А. Толстой митрополиту Антонию и Победоносцеву, о котором она упоминает в дневнике, было написано тотчас же после опубликования Определения синода и отправлено инициаторам отлучения.
Победоносцев оставил письмо без ответа, но Антонию, подпись которого под Определением стояла на первом месте, трудно было хранить молчание, тем более что, как это будет видно дальше, письмо Толстой получило широкую известность.
Более двух недель медлил Антоний, надеясь, что Определение найдет поддержку в обществе и даст возможность синоду, не теряя престижа, выйти из затруднительного положения.
Однако эти надежды не оправдались. Напротив, недовольство синодом возрастало день ото дня, о чем свидетельствовали получаемые им письма от представителей разных слоев русского общества, осуждающие отлучение.
Произошло небывалое в истории синода. Первоприсутствующий член синода митрополит Антоний под давлением общественного мнения вынужден был силою обстоятельств выступить на страницах синодального органа с объяснением действий синода и оправданием определения и в заключение просить у жены Толстого прощения за задержку ответа на ее письмо.
24 марта 1901 года в «Прибавлении» к № 12 неофициальной части «Церковных ведомостей» приведены полностью письмо С. А. Толстой и ответ на него Антония.
Письмо графини С. А. Толстой к Митрополиту Антонию:
«Ваше Высокопреосвященство.
Прочитав (вчера) в газетах жестокое определение Синода об отлучении от церкви мужа моего, графа Льва Николаевича Толстого, и увидав в числе подписей пастырей церкви и вашу подпись, я не могла остаться к тому вполне равнодушна. Горестному негодованию моему нет пределов. И не с точки зрения того, что от этой бумаги погибнет духовно муж мой: это не дело людей, а дело Божие. Жизнь души человеческой, с религиозной точки зрения, — никому неведома и, к счастью, — не подвластна. Но с точки зрения той Церкви, к которой я принадлежу и от которой никогда не отступлю, — которая создана Христом для благословения именем Божьим всех значительных моментов человеческой жизни: рождений, браков, смертей, радостей и горестей людских, которая должна громко провозглашать закон любви, всепрощения, любовь к врагам, к ненавидящим нас, молиться за всех, — с этой точки зрения для меня непостижимо определение Синода.
...Оно вызовет не сочувствие (разве только “Моск. Ведомостей”) а негодование в людях и большую любовь и сочувствие ко Льву Николаевичу. Уже мы получаем такие изъявления и им не будет конца со всех сторон мира.
Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мною от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно: о секретном распоряжении Синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича в случае его смерти.
Кого же хотят наказывать? Умершего, ничего не чувствующего уже человека, или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему?
Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду — или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или не порядочного, которого можно подкупить большими деньгами для этой цели?
Но мне этого и не нужно. Для меня церковь есть понятие отвлеченное, и служителями ее я признаю только тех, кто истинно понимает значение церкви.
Если же признать церковью людей, дерзающих своей злобой нарушать высший закон любви Христа, то давно бы все мы, истинно верующие и посещающие церковь, ушли бы от нее.
И виновны в грешных отступлениях от церкви — не заблудившиеся, ищущие истины люди, а те, которые гордо признали себя во главе ее, и вместо любви, смирения и всепрощения, стали духовными палачами тех, кого вернее простит Бог за их смиренную, полную отречения от земных благ, любви и помощи людям жизнь, хотя и вне церкви, чем носящих бриллиантовые митры и звезды, но карающих и отлучающих от церкви — пастырей ее.
Опровергнуть мои слова лицемерными доводами — легко. Но глубокое понимание истины и настоящих намерений людей — никого не обманет.
Графиня София Толстая
26 февраля 1901 года.
Москва, Хамовнический переул., 21» [33].
Ответ Митрополита Антония:
«Милостивая Государыня,
Графиня София Андреевна!
Не то жестоко, что сделал Синод, объявив об отпадении от Церкви вашего мужа, а жестоко то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры в Иисуса Христа», — начинает Антоний свой ответ.
Нет необходимости цитировать полностью его письмо, составленное в стиле бесцветной семинарской риторики с обилием текстов из церковных книг, с неубедительными попытками оправдать Определение синода об отлучении Толстого от церкви, обосновать постановление синода о запрещении христианского погребения Толстого в случае его смерти...
Заканчивает Антоний хитрой уверткой, оправдывая промедление с ответом якобы ожиданием, когда минет острота первого впечатления...
«В заключение прошу прощения, что не сразу вам ответил. Я ожидал, пока пройдет первый острый порыв вашего огорчения.
Благослови вас Господь и храни, и графа — мужа вашего — помилуй!
Антоний, Митрополит С.-Петербургский 1901 г. марта 16».
Назвав Определение жестоким, С. А. Толстая особенно подчеркнула в своем письме, что оно принято синодом вопреки божеским законам о любви и всепрощении, на что Антоний не без хитрости отвечает, что любовь божья прощает, но не всех и не за все. Синодальный акт, говорит он далее, не нарушает Христов закон любви, но есть акт любви, акт призыва к возврату в церковь и верующих — к молитве о Толстом.
При этом Антоний дипломатично умолчал о том, что наряду с «призывом» к молитве о Толстом он благословил кампанию преследования писателя церковниками.
Лицемерный ответ Антония был рассчитан на широкое обнародование для оправдания действий синода и для успокоения общественного мнения, возмущенного отлучением и травлей Толстого.
Подробно об этом рассказывал близкий к синоду протоиерей Орнатский («Петербургская газета», 1901, 27 марта):
«Обнародование письма графини С. Толстой и ответа на него его высокопреосвященства митрополита Антония имело свои веские и более чем уважительные причины, так как письмо графини стало очень широко распространяться в публике и не только в заграничных газетах и ходивших по рукам рукописных переводах — что не было бы еще таким широким распространением. Распространялись еще до появления в заграничной печати гектографические копии и не перевода, а подлинника письма, т. е. черновика его, и распространялись в огромном количестве экземпляров. Один экземпляр такой копии был получен и у нас в Экспедиции заготовления государственных бумаг. С ним я и поехал к его высокопреосвященству. Владыка сверил копию письма с подлинником, — она оказалась тождественной. Тогда-то и решено было, в виде противодействия распространения одностороннего мнения, обнародовать как письмо графини, так и ответ владыки. Сперва оба эти документа были изготовлены на гектографе и раздавались в Синоде, а затем уже решено было напечатать их в прибавлении к “Церковным Ведомостям”».
Орнатский откровенно высказал подлинную причину выступления Антония в печати: нужно было спасать положение и лицо синода. Последствия отлучения были настолько неблагоприятны для его инициаторов, что считавший себя непререкаемым авторитетом в делах охраны и укрепления незыблемости основ самодержавия и церкви Победоносцев в письме к главному редактору журнала “Церковные ведомости” протоиерею Л. А. Смирнову с горечью вынужден был признать, что “Послание” синода о Т. (Толстом. — Г. П.) вызвало целую “тучу озлобления” [34].
Несомненный интерес представляют дневниковые записи С. А. Толстой о впечатлении, произведенном ее письмом к Антонию:
26 марта: «Очень жалею, что не писала последовательно события, разговоры и пр. Самое для меня интересное были письма, преимущественно из-за границы, сочувственные моему письму к Победоносцеву и трем митрополитам. Никакая рукопись Л. Н. не имела такого быстрого и обширного распространения, как это мое письмо. Оно переведено на все иностранные языки...»
27 марта: «На днях получила ответ митрополита Антония на мое письмо. Он меня совсем не тронул. Все правильно и все бездушно. А я свое письмо написала одним порывом сердца — и оно обошло весь мир и просто заразило людей искренностью».
Полемика Антония с С. А. Толстой вызвала новый поток осуждающих писем в адрес синода.
 |
Остановимся на переписке М. Казембек [35] с митрополитом Антонием и письме И. Дитерихса [36] Победоносцеву, очень выразительно характеризующих этих государственных деятелей.
«Как жаль, что отлучение Толстого свершилось, — писала митрополиту Антонию М. Л. Казембек. — Послание синода написано и мягко, и даже симпатично, но все же несвоевременно. Зачем прибегать к мерам, которые приводят к обратным результатам, и вместо того, чтобы скреплять церковь, расшатывают ее».
От митрополита Антония последовал ответ: «Я с вами не согласен, что синодальный акт о Толстом может послужить к разрушению Церкви. Я, напротив, думаю что он послужит к укреплению ее. С окончанием поста я думаю, все толки по этому делу прекратятся, и общество со временем будет благодарить синод, что он дал ему тему, которая заняла его на все скучное для него великопостное время. С толстовцами завязалась у нас подпольная полемика. Они бьют нас сатирами и баснями, и у нас нашлись тоже свои сатирики, хотя и не совсем удачные. На этом поприще мы не подготовлены бороться. Война создаст или вызовет таланты. Первоначальный трагизм заменился, пожалуй, комизмом, а победа будет все же на стороне церкви».
М. Л. Казембек, возмущенная игривостью и цинизмом ответа Антония, вновь писала ему: «Я вовсе не поклонница идей Толстого, но скажу вам только две вещи: 1) мне рассказывали из довольно верного источника следующее: лет 12—15 тому назад, когда Толстой впервые публично отрекся от православия, от веры в Христа — бога и от церкви, в кружке покойного государя некто сказал, что в сущности Толстой подлежит отлучению. На это Александр III ответил: “ну, уж нет, мученического венца я на него не надену”. 2) В вашем письме сквозит насмешка над “обществом”, которое из синодального акта сделало себе забаву на “скучное великопостное время”...
То, что не было в Петербурге ни одного дома, где не происходило бы жарких дебатов на эту тему, вы, по-видимому, считаете забавным и даже комичным. В ваших устах меня это удивляет... Стало быть, “общество” и “весь Петербург” (да и вся Россия) не достойны внимания... Это не люди, не души...» [37]
Ответ Антония действительно поражает своей беспринципностью, попыткой отшутиться, показать отлучение Толстого как фарс, комедию.
Видимо, в арсенале синодских богословов не нашлось ни одного убедительного аргумента, который они могли бы выдвинуть в оправдание определения. Самоуверенное заявление Антония о том, что «победа будет все же на стороне церкви», оказалось пустым бахвальством. Как известно, победил Лев Толстой, и русская церковь понесла такое поражение, равного которому она не имела за всю историю своего существования.
Исключительный интерес представляет письмо Дитерихса, замечательное по смелости и яркости:
«Г-ну обер-прокурору Синода Константину Петровичу Победоносцеву.
Милостивый государь,
Вы состоите главой касты, именующей себя российским православным духовенством, и вершите все так называемые “религиозные дела”.
Одним из последних актов Вашей деятельности явилось отлучение от церкви Л. Н. Толстого, наделавшее столько нелестного для Вас шума как в России, так и за границей.
Исходя из того понимания служения церкви, которое выражено всем законодательным кодексом православного Синода, Вы действуете вполне последовательно, хотя этим не только не повредили Л. Н. Толстому, но оказали значительную услугу, привлекли к нему симпатии всех искренних людей. Кроме того, всякий искренний и свободомыслящий человек может пожелать только, чтобы над ним Вы проделали ту же манипуляцию и освободили его от тех обязательств при жизни и по смерти, которые накладывает государственная церковь на паству.
Но, вместе с тем, этим декретом о Толстом Вы лишний раз обнаружили присущие Вам и Вашему синклиту свое, кощунственное отношение к идее христианства, ханжество и величайшее лицемерие, ибо ни для кого не тайна, что этим путем Вы хотели подорвать доверие народных масс к авторитетному слову Льва Толстого.
В известном Вам письме гр. С. А. Толстая прекрасно выставила поступок в его настоящем свете, и мне нечего прибавить к ее словам. Она выразила те чувства, которые волнуют ее, как самого близкого Льву Николаевичу человека, и притом искренно верующего. Будучи одним из тех близких ему людей, о которых упоминается в указе Синода я счел своим нравственным долгом заявить откровенно о том, что не совместные с митрополитом и архиереями молитвы возносить буду о спасении души Л. Н., но совместно с ним отрекаюсь от всякой солидарности с подобными Вам изуверами и всеми силами буду стремиться обличать перед лицом народа тот грубый обман, в котором Вы все — служители церкви — держите его и при помощи коего властвуете над ним.
Люди вашей касты так привыкли к этой власти, что даже мысли не допускаете, что царству вашему придет конец...
Но то же думали все угнетатели свободы духа всех народов, о которых ныне история повествует с ужасом и омерзением. Вы тщательно скрываете Вашу роль суфлера, действуя повсюду под прикрытием царского имени, и потому личность Ваша не всем ясна; но число зрячих как в обществе, так и в народе растет, слава Богу, и я один из тех, который имел возможность видеть воочию плоды Вашей деятельности и оценить их по достоинству».
Далее автор говорит об известных ему по службе на Кавказе бедствиях, претерпеваемых сосланными туда сектантами, подвергающимися жестоким гонениям по указанию Победоносцева, о насильственном насаждении православия среди мусульманского населения Кавказа, лживости и фарисействе Победоносцева.
«Вы солгали другому близкому лицу, стараясь разуверить его в том, что Синод не издавал секретного предписания о недопущении отпевания тела Л. Толстого в случае его смерти, а между тем в это время по всем епархиям были уж разосланы указы от 5 апреля 1900 г. с воспрещением духовенству служить по нем панихиды...
Я мог бы привести веские доказательства всему сказанному и выставить деятельность Вашу на моей родине в настоящем свете, если бы знал, что письмо это способно навести Вас на размышление о нравственной правоте Ваших поступков; но, зная Вашу самоуверенную бессовестность, и то, что Вы слишком поглощены заботами об охране государства от надвигающейся отовсюду крамолы, я считаю это излишним.
Да и главная цель моего письма не есть изобличение Вас, но желание заявить публично о своем выходе из православия, пребывать в коем, даже номинально, стало для меня невыносимым. (Несмотря на мою немецкую фамилию, я принадлежу к чисто русской семье, был воспитан в строгом православном духе.) Желание отречься от православия я ощущал уже несколько лет и особенно с тех пор, как был выслан с Кавказа за участие, проявленное к судьбе гонимых Вами духоборов, — но малодушие мешало.
Упомянутый указ Синода о Л. Н. Толстом помог мне разобраться в моем личном отношении к православию, как государственной религии, и я искренно рад, что теперь открыто могу заявить перед всеми, что православным перестал быть.
Не задаюсь также мыслью о том, будут ли еще со стороны русских людей подобные заявления или нет, если будут, тем лучше, если нет, то тем более нужно, чтобы хоть кто-нибудь заявил откровенно то, что думает большинство сознательно живущих людей.
Считаю долгом довести об этом до Вашего сведения только потому, что, не будучи эмигрантом и имея паспорт русского подданного, по которому числюсь православным, и тем самым пользуюсь и привилегиями, связанными с этим, и которых, по существующим русским законам, должен буду лишиться, — о чем и можете донести, куда следует.
Поступая так, действую совершенно самостоятельно, без всякого с чьей-либо стороны наущения и сознательно несу за то всю ответственность.
Англия, март 1901 г.»
Письмо Дитерихса было напечатано в заграничной прессе и получило широкую известность.
С большим одобрением отозвался об этом письме Толстой, прочитавший его во французской газете «Орор».
Можно с уверенностью сказать, что до письма Дитерихса в печати не было более откровенного обличительного выступления против Победоносцева.
С другой стороны, письмо Дитерихса положило начало серии открытых демонстративных заявлений о выходе из дискредитировавшего себя православия; за ним последовали аналогичные заявления в синод с просьбой об отлучении от разных лиц, как из числа единомышленников Толстого, так и со стороны отдельных представителей русской внерелигиозной интеллигенции.
Письмо Дитерихса было оставлено Победоносцевым без ответа.
Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше, этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах, жандармами во Христе, с темными инквизиторами, которые поддерживали и еврейские погромы и прочие подвиги черносотенной царской шайки.
В. И. Ленин
Как мы уже говорили, неожиданно для синода и, конечно, вопреки замыслам «отцов» церкви и реакционных кругов отлучение от церкви содействовало необычайному росту популярности Толстого.
Народная любовь к писателю и трибуну была той твердыней, о которую разбились попытки синода опорочить и принизить имя Толстого. Народ не позволил надругаться над Толстым и в едином порыве встал на его защиту.
Вслед за отлучением в Петербурге, Москве, Киеве и многих других городах начались демонстрации, выражавшие сочувствие Толстому.
В Петербурге, на XXIV Передвижной выставке, около исполненного Репиным портрета Льва Николаевича (купленного музеем Александра III) «были две демонстрации: в первый раз небольшая группа людей положила цветы к портрету; в прошлое же воскресенье, 25 марта 1901 года, в большом зале выставки собралась толпа народа. Студент встал на стул и утыкал букетами всю раму, окружающую портрет Льва Николаевича. Потом стал говорить хвалебную речь, затем поднялись крики “ура”, с хор посыпался дождь цветов; а следствием всего этого то, что портрет с выставки сняли и в Москве он не будет, а тем более в провинции...» (Из дневника С. А. Толстой, запись 30 марта 1901 г. — со слов И. Е. Репина), присутствовавшие на выставке послали Толстому приветственную телеграмму с 398 подписями, которая, ввиду запрещения передавать на имя Толстого сочувственные телеграммы, доставлена ему не была. Текст ее Толстой получил впоследствии — по почте.
Киевляне послали Толстому адрес — «величайшему и благороднейшему писателю нашего времени». Адрес собрал более 1000 подписей. Такие же адресы посылались из других городов.
В Полтаве, в переполненном зале театра, где шла пьеса Толстого «Власть тьмы», публика устроила шумную овацию в честь писателя.
Среди бесчисленных откликов — приветствия от рабочих Прохоровской мануфактуры, от группы политических ссыльных из Архангельска, от рабочих из города Коврова, от испанских журналистов и многие другие.
В защиту Толстого стали появляться карикатуры, басни и стихи.
Первой по времени была напечатана басня неизвестного автора «Ослы и Лев». Она впервые появилась в ежемесячном журнале «Свободная мысль» (редактор К. И. Бирюков) в № 14 за 1901 г.
Известны еще басни: «Голуби-победители» и «Глупей-Синод»; продолжаются дальнейшие поиски сатирических произведений, посвященных отлучению, устанавливается их авторство [38].
В одном из дел о студенческих волнениях и протестах хранится карандашный набросок, сделанный студентами Императорского Московского технического училища, избражающий заседание синода 22 февраля 1901 года.
Члены синода представлены мышами, а Толстой — котом. На рисунке надпись: «Как мыши кота хоронили», а далее «Святейший Синод решил не считать графа Л. Толстого в числе членов церкви. А ему начхать».
Этот рисунок 26 февраля 1901 года был снят со стены в училище и представлен попечителем Московского учебного округа министру народного просвещения.
Волнения в обществе в связи с отлучением Толстого вызвали беспокойство правящих верхов и департамента полиции, которому была вверена забота о наблюдении за колебаниями настроений.
Не довольствуясь обычной слежкой за Толстым и теми, кто постоянно общался с ним, департамент полиции произвел перлюстрацию (тайное прочтение) многих частных писем людей, не имевших никакого касательства к Толстому, чтобы выявить их отношение к акту отлучения писателя.
Перлюстрации подвергались главным образом письма сановных лиц и представителей чиновного мира Петербурга и Москвы.
В составленной департаментом полиции сводке результатов перлюстрации мы находим много отзывов о синодальном акте, о «святых отцах», отлучивших Толстого, их вдохновителе — Победоносцеве и о самом Толстом. Несмотря на то что авторы писем по большей части не являлись последователями Толстого и не разделяли его взглядов на религию и церковь, почти во всех письмах высказываются порицания Синоду, акт отлучения расценивается как нечто несвоевременное, ненужное, глупое и вредное для престижа церкви.
Например, в письме графа Игнатьева [39] есть следующие строки: «Нет, это публичное заявление синода едва ли своевременно, и в глазах легкомысленных и заблужденных людей только увеличит, пожалуй, значение Толстого и враждебность к строю церкви православной».
Консультант министерства юстиции юрисконсульт кабинета его величества Н. А. Лебедев писал: «Прочитал сейчас указ Синода о Толстом. Что за глупость. Что за удовлетворение личного мщения. Ведь ясно, что это дело рук Победоносцева и что это он мстит Толстому... Прежде не понимали его лжеучений, а синод их подчеркнул. По смерти похоронят Толстого, как мученика за идею, с особой помпой. На могилу его будут ходить на поклонение. Что меня огорчает, так это отсутствие в епископах духа любви и применения истин христианства... Народился новый тип священника-чиновника, который смотрит на дело, как на службу, и только заботится о получении денег за требы. Все это горько и прискорбно. Говорят, что Толстой писал государю по поводу молокан и духоборов [40]. Говорил в письме, что государь молод и находится под влиянием добряка и добродушного Сипягина [41] и хитрого зловредного царедворца Победоносцева. Письмо произвело сильное впечатление. Победоносцев рвал и метал...».
В письме из Петербурга в Тифлис некоей Н. П. Агапьевой взяты на отметку следующие строки: «Никто не мог предполагать такой комедии, как официальное отлучение Толстого от церкви. Осрамили Россию на весь мир. Как бестактно в политику вносить личные счеты; это личная месть Победоносцева за то, что Толстой осмеял его в “Воскресении”. Я просто постичь не могу, как все же умный такой господин не мог, как следует, оценить эту веру. Вот до чего доводит личный характер в делах, касающихся всего государства. Что собственно хотели сделать этим отлучением?..»
«Отлучение гр. Толстого оказалось выстрелом по воробьям. Высшие классы хохочут, а низшие не понимают и не дают себе отчета, — писал В. А. Попов из Петербурга в Киев директору гимназии А. А. Попову. — В ответ на отлучение гр. Толстой составил завещание, в котором приказывает похоронить себя без всяких обрядов. Таким образом, создается место для паломничества. В Москве парадный выход из дома Толстого сопровождается толпою, которая ему оказывает знаки уважения и почтения...»
В Женеву некоей А. А. Громек писала из Москвы ее знакомая: «Я слышала от одной подмосковной сельской жительницы, что мужики объясняют это отлучение так: это все за нас; он за нас стоит и заступается, а попы и взъелись на него».
Приведенные нами выдержки с достаточной убедительностью подтверждают, что отлучение было осуждающе принято даже в чиновных кругах, оценивших этот шаг синода как повод к крайне нежелательному, на их взгляд, росту популярности Толстого и его произведений.
То, что выудил департамент полиции, роясь в частной переписке, — это капля в море откликов на отлучение Толстого. Многочисленные отклики друзей, единомышленников Толстого, писателей и общественных деятелей, передовой части русского общества, наконец, выступления церковников в защиту и оправдание определения синода — все это открывает перед нами одну из страниц истории борьбы передовой России с прогнившим и пережившим себя самодержавным строем.
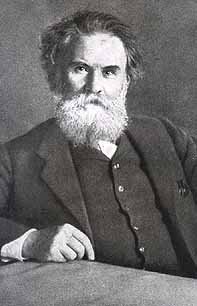 |
Нет возможности даже перечислить все те отклики и корреспонденции по поводу отлучения Толстого от церкви, поэтому ограничимся самыми, на наш взгляд, существенными:
«Новое “событие”, — записал 26 февраля 1901 г. в своем дневнике В. Г. Короленко, — которое для всей России закроет даже все эти волнения (имеются в виду антиправительственные демонстрации в Харькове и Гельсингфорсе. — Г. П.): Л. Н. Толстой “отлучен от церкви”. Вчера телеграфное агентство разослало это известие по всей России, вернее, по всему миру... Акт беспримерный в новейшей русской истории! Правда, беспримерны также сила и значение писателя, который, оставаясь на русской почве, огражденный только обаянием великого имени и гения, так беспощадно и смело громил бы “китов” русского строя: самодержавный порядок и господствующую церковь. Мрачная анафема семи российских “святителей”, звучащая отголосками мрачных веков гонения, несется навстречу несомненно новому явлению, знаменующему огромный рост свободной русской мысли...» [42]
Находившийся в это время во Франции Гнедич [43] в своих «Воспоминаниях» писал: «В улице Ришелье, в небольшом книжном магазине, усердно торговали произведениями Толстого. Там я купил полный экземпляр “Воскресения”, за которое в сущности и был Толстой отлучен от церкви, не столько за оскорбление таинства евхаристии, сколько за описание визита Нехлюдова к Победоносцеву. Этого не мог переварить глава синода — и граф оказался отлученным.
Во французских карикатурных журналах Толстой был изображен с нимбом (сиянием. — Г. П.) вокруг головы, в позе святого. “Деканонизация” обращена была в шутку — и от деканонизированного Толстого шли лучи. Я вырезал карикатуру и послал Л. Н., — не знаю, получил ли он.
Не знаю также, получен ли им рисунок из немецкого “Jugend”. Там изображен Толстой, извлекаемый из храма. Фигура громадная. Приходится распилить пополам здание, чтобы извлечь его...» [44].
Вскоре в Париже вышел сборник «Lа Рlume» («Перо») со статьями и очерками французских и бельгийских писателей, демонстрирующих свои симпатии отлученному Толстому. В сборнике участвовали свыше сорока писателей: Золя, Маргерит, Метерлинк и другие.
«Собственно говоря, с церковной точки зрения, этот акт был вполне логичен, — писал П. И. Бирюков. — Но он был бестактен с точки зрения борьбы с влиянием Л. Н.-ча». И действительно, последствия были неожиданны.
Послание было опубликовано 24 февраля [45]; то было воскресенье. В этот день разыгрались волнения студентов, неожиданно смешавшиеся с общим протестом против нелепого постановления.
Заимствуем описание того, что произошло в Москве 24 февраля, из письма Софьи Андреевны своей сестре Татьяне Андреевне Кузьминской, жившей тогда в Киеве, по месту служения ее мужа:
«...Мы пока еще в Москве и пережили в эти дни здесь много интересного. После ваших киевских студентов взбунтовались наши, московские. Но совсем не по-прежнему; разница в том, что раньше студентов били мясники и народ им не сочувствовал. Теперь же весь народ: приказчики, извозчики, рабочие, не говоря об интеллигенции — все на стороне студентов. 24 февраля было воскресенье, в Москве на площадях и на улицах стояли и бродили тысячные толпы народа. В этот же день во всех газетах было напечатано отлучение от церкви Льва Николаевича. Глупее не могло поступить то правительство, которое так распорядилось. В этот день и в следующие мы получили столько сочувствия и депутациями, и письмами, адресами, телеграммами, корзинами цветов и пр. и пр. Негодуют все без исключения, и все считают выходку Синода нелепой...» [46]
* * *
Значительно позже В. Д. Бонч-Бруевич написал статью — отклик на отлучение Толстого, которую мы приводим с небольшими сокращениями по неизданной рукописи:
 |
«...Это объявление об отлучении Л. Н. Толстого от церкви, из которой он сам вышел более двадцати лет тому назад, разоблачив ее гнусные дела, освящаемые более чем нелепым и догматическим богословием, конечно, само по себе ни для Л. Н. Толстого, ни для его последователей, ни для поклонников его изумительного таланта, ни для современного общества начала XX века не имело бы никакого значения, если бы под этой нелепостью не крылось бы явно различаемое желание натравить фанатиков и изуверов православия и других прочих отбросов общества, дабы так или иначе повредить гениальному писателю и поколебать его несомненный авторитет в широких массах населения. Именно поэтому, относясь с полным презрением к этим скандальным монашествующим пройдохам, повсюду в царской России тогда и прокатился гневный протест, изобличавший этих “семь смиренных голубей” с обер-прокурором Святейшего Синода К. П. Победоносцевым во главе в их отвратительном замысле против великого писателя Земли русской.
Заграничная свободная русская пресса во множестве сообщений со всех концов царской России отметила негодование и протест всех слоев общества, а также рабочих, которые не только приветствовали Л. Н. Толстого, но, порицая Синод и Победоносцева, отказывались от православия и заявляли себя свободными от попов и учения их церкви.
Весьма интересно знать, как же отнеслась редакция с.-д. революционной газеты “Искры”, которая тогда была в руках Владимира Ильича:
В № 3 (апрель 1901 г.) в передовой статье “Искры”, которая называлась “Бурный месяц”, редакция писала: “На обе безумные выходки зарвавшегося правительства — отдачу студентов в солдаты и торжественное отлучение Толстого — пролетариат громко ответил выражением своей солидарности и с “бунтующими” студентами, и с отлученным писателем”.
Протест против преследования Л. Н. Толстого проявился по всем городам России, слившись с общественным протестом по поводу студенческих волнений...
В № 4 “Искры” (май 1901 г.) был напечатан адрес рабочих прохоровской мануфактуры Л. Н. Толстому... Этот адрес московских текстильных рабочих перекликается с адресом, написанным почти в то же самое время членами женевской политической колонии. Вот этот интересный документ:
“Дорогой Лев Николаевич. Мы вполне уверены, что нелепое распоряжение Синода от 22 февраля с. г. не могло нарушить спокойствия Вашего духа. Но, присутствуя при факте этого наглого лицемерия, мы не можем удержаться, чтобы не выразить Вам нашего горячего сочувствия и солидарности с Вами во многих “преступлениях”, возводимых на Вас Синодом. Мы искренно желали бы удостоиться той чести, которую оказал Вам Синод, отделив такой резкой чертой свое позорное существование от Вашей честной жизни. По своей близорукости Синод усмотрел самое главное Ваше “преступление” перед ним — то, что Вы своими писаниями рассеиваете тьму, которой он служит, и даете сильный нравственный толчок истинному прогрессу человечества. За это приносим нашу глубокую благодарность и от души желаем продления Вашей жизни еще на многие годы” [47].
“Искра” также отмечает, как использовали попы православной церкви это синодальное отлучение Л. Н. Толстого. В № 5 (июнь 1901 г.) “Искры” в корреспонденции Ярославля “Учителя и попы в роли жандармов” сообщается: “На репетиции (экзамена) закона божия в женской гимназии священник спрашивал ученицу: “Кто у нас еретик?” Ученица молчит. Священник ругается: “На экзамене должны сказать — Лев Толстой...”
Это они (авторы отлучения. — Г. П.) распорядились не только печатать ими составленное отлучение Л. Н. Толстого, но и читать его местными попами во всех церквах в ближайший воскресный день, когда в церквах бывало наибольшее скопление народа. Корреспонденты с мест сообщали, что во многих местах как только попы начинали совершать это оглашение, предстоящие прихожане демонстративно покидали церковь...»
Духовные пастыри между тем, используя многовековой опыт распространения церковных идей, стремясь не только оправдать выступление синода против Толстого, но и усилить неприязнь к нему со стороны верующих, широко развернули свою пропагандистскую деятельность.
Обилие брошюрок и книжечек, газетных выступлений в церковной и реакционной прессе — все было направлено на утверждение правильности и своевременности отлучения, причем эта литература была рассчитана не только на народные массы, но и на «образованное общество». Например, законоучитель Московского императорского лицея священник Иоанн Соловьев в память Цесаревича Николая с разрешения духовной цензуры в мае 1901 года выпустил брошюру «Послание Святейшего Синода о графе Льве Толстом (Опыт раскрытия его смысла и значения по поводу толков о нем в образованном обществе)», в которой пытается разъяснить, что отлучение Толстого было необходимым и закономерным актом, что вместе с тем «Св. Синод лишь свидетельствует перед всею Церковию об его отлучении, но самого акта отлучения, как церковного действия (т. е. анафематствования. — Г. П.), еще не совершает», «этого церковного акта отлучения над графом Л. Толстым, как в некотором отношении сакраментального действия, совершено не было, а произнесено лишь церковно-учительское свидетельство архипастырей об его отлучении. Достойно внимания и то, что свидетельство это обращено не к самому графу, а к верным чадам православной церкви...
Следовательно, если отлучение и есть суд, то не карательный, а исправительный и предупредительный... отлучение от церкви не есть кара, или окончательный приговор о судьбе отлученного, а путь ко спасению, — путь крайний и тернистый, но желанный конец его — радость спасения».
Нелегко разобраться в этой путанице понятий и толкований. Так все запугано, что и концов не найдешь.
В том же году в Киеве вышла аналогичного содержания брошюра священника К. Аггеева «По поводу толков в современном образованном обществе, возбужденных посланием Св. Синода о графе Л. Толстом», где автор «на основании систематического изучения произведений графа Толстого доказывает, что пантеистическая (отождествление бога с природой. — Г. П.) тенденция всегда была присуща графу, как писателю...»
Почти вся церковная литература на эту тему скучно однообразна и невразумительна. Расчет высших синодальных иерархов и Победоносцева на то, что отлучение поколеблет авторитет Толстого в народных массах, как известно, не оправдался.
Кстати, следует упомянуть, что среди духовенства были священники, которые не скрывали своей симпатии к Толстому, переписывались с ним.
Так, в журнале «Русская литература» (1964, № 2) Б. Реизов сообщает:
«...интерес к Толстому в Нахичевани (на Дону. — Г. П.) был очень большой... Особенно много разговоров вызвало отлучение великого писателя от церкви. Один священник армяно-грегорианской церкви... после отлучения написал Толстому письмо и заверял его, что если они откажутся его хоронить, то он, священник армяно-грегогорианской церкви, приедет в Ясную Поляну и сам его отпоет».
8 апреля 1901 года Толстой записывает в дневиике: «Все продолжаются адресы и приветствия».
На сочувственные телеграммы, письма и адресы по поводу отлучения от церкви Толстой направил в газеты следующий ответ-благодарность, в котором не удержался от соблазна еще раз посмеяться над постановлением синода, столь способствовавшим росту популярности Льва Николаевича:
«Г. Редактор!
Не имея возможности лично поблагодарить всех тех лиц, от сановников до простых рабочих, выразивших мне как лично, так и по почте и по телеграфу свое сочувствне по поводу постановления св. Синода от 20—22 февраля, покорнейше прошу вашу уважаемую газету поблагодарить всех этих лиц, причем сочувствие, высказаное мне, я приписываю не столько значению своей деятельности, сколько остроумию и благовременности постановления св. Синода.
Лев Толстой»
Это письмо, разумеется, не было напечатано в легальной прессе. Чертков опубликовал его в Англии в издаваемых им «Листках свободного слова» (1901, № 23).
...Каждое положение в критике Толстого есть пощечина буржуазному либерализму, — потому, что одна уже безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая постановка Толстым самых вольных, самых проклятых вопросов нашего времени бьет в лицо шаблонным фразам, избитым вывертам, уклончивой, «цивилизованной» лжи нашей либеральной (и либерально-народнической) публицистики.
В. И. Ленин
Как же отнесся к отлучению от церкви сам Толстой? По этому поводу С. А. Толстая рассказала следующее:
Лев Николаевич «...выходил на свою обыкновенную прогулку, когда принесли с почты письма и газеты. Их клали на столик в прихожей. Толстой, разорвав бандероль, в первой же газете прочел о постановлении Синода, отлучившим его от церкви. Надел, прочитав, шапку — и пошел на прогулку. Впечатления никакого не было».
По свидетельству Гершензона [48], писавшего 1 марта 1901 г. брату, «Толстой сказал об этом постановлении: “Если бы я был молод, мне польстило бы, что против маленького человека принимаются такие грозные меры, а теперь, когда я стар, я только сожалею, что такие люди стоят во главе”» [49].
Обратимся к дневнику Толстого. В записи от 19 марта 1901 года говорится: «За это время было странное отлучение от церкви и вызванные им выражения сочувствия».
Однако первоначальное безразличие Толстого к отлучению скоро сменилось необходимостью выступить с открытым протестам против определения синода: «Я не хотел сначала отвечать на постановление обо мне синода», — начинает Толстой свой «Ответ Синоду».
Поводом к этому выступлению писателя послужило то обстоятельство, что в связи с отлучением от церкви он получал не только приветствия с выражением сочувствия, но и значительное количество увещевательных и ругательных — большей частью анонимных — писем.
В письме к Черткову 30 марта 1901 года Толстой сообщил: «Письма ко мне увещательные от лиц, считающих меня безбожником, вызвали меня к тому, чтобы написать ответ на постановление Синода». Поэтому первоначально — в черновике ответ синоду был озаглавлен: «Моим, скрывающим свое имя корреспондентам-обвинителям».
В «Ответе Синоду», принятом русским обществом с большим интересом и сочувствием, Толстой показал, что он не устрашился церковного отлучения и не поколебался в своих убеждениях. «Ответ» был непревзойденным по силе обличением и отрицанием церковных канонов и обрядности.
Приводим его текст.
«Ответ
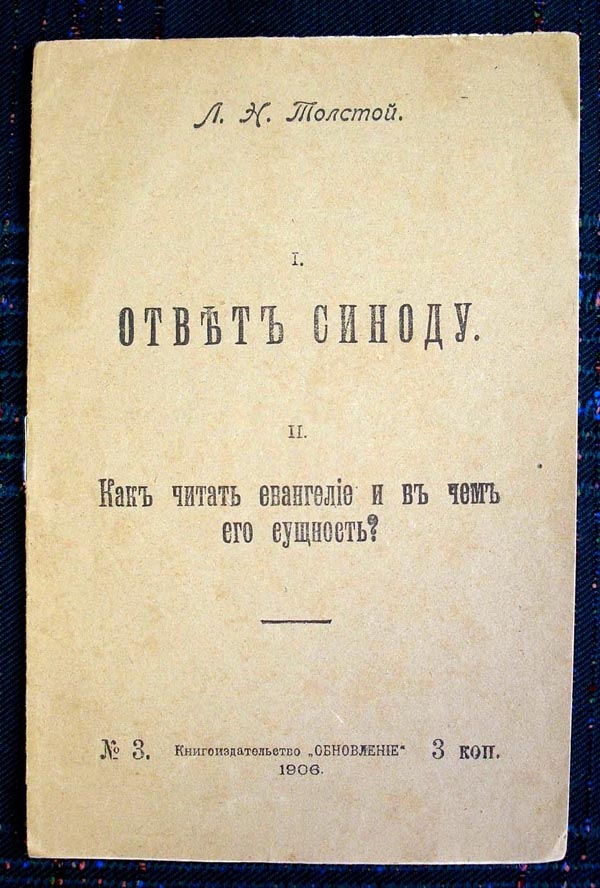 |
на определение Синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма. Я не хотел сначала отвечать на постановление обо мне синода, но постановление это вызывало очень много писем, в которых неизвестные мне корреспонденты — одни бранят меня за то, что я отвергаю то, чего я не отвергаю, другие увещевают меня поверить в то, во что я не переставал верить, третьи выражают со мной единомыслие, которое едва ли в действительности существует, и сочувствие, на которое я едва ли имею право; и я решил ответить и на самое постановление, указав на то, что в нем несправедливо, и на обращения ко мне моих неизвестных корреспондентов.
Постановление синода вообще имеет много недостатков. Оно незаконно или умышленно двусмысленно; оно произвольно, неосновательно, неправдиво и, кроме того, содержит в себе клевету и подстрекательство к дурным чувствам и поступкам.
Оно незаконно или умышленно двусмысленно — потому, что если оно хочет быть отлучением от церкви, то оно не удовлетворяет тем церковным правилам, по которым может произноситься такое отлучение; если же это есть заявление о том, что тот, кто не верит в церковь и её догматы, не принадлежит к ней, то это само собой разумеется, и такое заявление не может иметь никакой другой цели как только ту, чтобы, не будучи в сущности отлучением оно бы казалось таковым, что собственно и случилось, потому что оно так и было понято.
Оно произвольно, потому что обвиняет одного меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении, тогда как не только многие, но почти все образованные в России разделяют такое неверие и беспрестанно выражали и выражают его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах и в книгах.
Оно неосновательно, потому что главным поводом своего появления выставляет большое распространение моего совращающего людей лжеучения, тогда как мне хорошо известно, что людей, разделяющих мои взгляды, едва ли есть сотня, и распространение моих писаний о религии, благодаря цензуре, так ничтожно, что большинство людей, прочитавших постановление Синода, не имеют ни малейшего понятия о том, что мною писано о религии, как это видно из получаемых мною писем.
Оно содержит в себе явную неправду, утверждая, что со стороны церкви были сделаны относительно меня не увенчавшиеся успехом попытки вразумления, тогда как ничего подобного никогда не было.
Оно представляет из себя то, что на юридическом языке называется клеветой, так как в нем заключаются заведомо несправедливые и клоняющиеся к моему вреду утверждения.
Оно есть, наконец, подстрекательство к дурным чувствам и поступкам, так как вызвало, как и должно было ожидать в людях непросвещенных и нерассуждающих озлобление и ненависть ко мне, доходящие до угроз убийства и высказываемые в получаемых мною письмах. “Теперь ты предан анафеме и пойдешь по смерти в вечное мучение и издохнешь как собака... анафема ты, старый чорт… проклят будь”, пишет один. Другой делает упреки правительству за то, что я не заключен еще в монастырь, наполняет письмо ругательствами. Третий пишет: “Если правительство не уберет тебя, — мы сами заставим тебя замолчать”; письмо кончается проклятиями. “Чтобы уничтожить прохвоста тебя, — пишет четвертый, — у меня найдутся средства...” Следуют неприличные ругательства.
Признаки такого же озлобления после постановления Синода я замечаю и при встречах с некоторыми людьми. В самый же день 25 февраля, когда было опубликовано постановление, я, проходя по площади, слышал обращенные ко мне слова: “Вот дьявол в образе человека”, и если бы толпа была иначе составлена, очень может быть, что меня бы избили, как избили, несколько лет тому назад, человека у Пантелеймоновской часовни.
Так что постановление Синода вообще очень нехорошо; то, что в конце постановления сказано, что лица, подписавшие его, молятся, чтобы я стал таким же, как они, не делает его лучше.
Это так вообще, в частностях же постановление это несправедливо в следующем. В постановлении сказано: “Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на господа и на Христа его и на святое его достояние, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери, церкви православной”.
То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему. Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо дорого, я, по некоторым признакам усомнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически — я перечитал все, что мог, об учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически же — строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения.
Стоит только прочитать требник и проследить за теми обрядами, которые не переставая совершаются православным духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы увидать, что все эти обряды не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни. Для того, чтобы ребенок, если умрет, пошел в рай, нужно успеть помазать его маслом и выкупать с произнесением известных слов; для того, чтобы родильница перестала быть нечистою, нужно произнести известные заклинания; чтобы был успех в деле или спокойное житье в новом доме, для того, чтобы хорошо родился хлеб, прекратилась засуха, для того, чтобы путешествие было благополучно, для того, чтобы излечиться от болезни, для того, чтобы облегчилось положение умершего на том свете, для всего этого и тысячи других обстоятельств есть известные заклинания, которые в известном месте и за известные приношения произносит священник. (Этот абзац Л. Толстой привел в примечании. — Г. П.).
И я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей, и мертвое мое тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым.
То же, что сказано, что я “посвятил свою литературную деятельность и данный мне от бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви” и т. д. и что “я в своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых мною так же, как и учениками моими, по всему свету, в особенности же в пределах дорогого отечества нашего, проповедую с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской”, — то это несправедливо. Я никогда не заботился о распространении своего учения. Правда, я сам для себя выразил в сочинениях свое понимание учения Христа и не скрывал эти сочинения от людей, желавших с ними познакомиться, но никогда сам не печатал их; говорил же людям о том, как я понимаю учение Христа только тогда, когда меня об этом спрашивали. Таким людям я говорил то, что думаю, и давал, если они у меня были, мои книги.
Потом сказано, что я “отвергаю бога, во святой троице славимаго создателя и промыслителя вселенной, отрицаю господа Иисуса Христа, богочеловека, искупителя и спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашею ради спасения и воскресшего из мертвых, отрицаю бессеменное зачатие по человечеству Христа господу и девство до рождества и по рождестве пречистой богородицы”. То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении первого человека, кощунственную историю о боге, родившемся от девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же — духа, бога — любовь, единого бога — начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли бога, выраженной в христианском учении.
Еще сказано: “не признает загробной жизни и мздовоздаяния”. Если разуметь жизнь загробную в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями, дьяволами, и рая — постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что я не признаю такой загробной жизни; но жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до такой степени, что, стоя по своим годам на краю гроба, часто должен делать усилия, чтобы не желать плотской смерти, то есть рождения к новой жизни, и верю, что всякий добрый поступок увеличивает истинное благо моей вечной жизни, а всякий злой поступок уменьшает его.
Сказано также, что я отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о боге и христианскому учению колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний евангелия.
В крещении младенцев вижу явное извращение всего того смысла, который могло иметь крещение для взрослых, сознательно принимающих христианство; в совершении таинства брака над людьми, заведомо соединявшимися прежде, и в допущении разводов и в освящении браков разведенных вижу прямое нарушение и смысла, и буквы евангельского учения. В периодическом прощении грехов на исповеди вижу вредный обман, только поощряющий безнравственность и уничтожающий опасение перед согрешением.
В елеосвящении так же, как и в миропомазании, вижу приемы грубого колдовства, как и в почитании икон и мощей, как и во всех тех обрядах, молитвах, заклинаниях, которыми наполнен требник. В причащении вижу обоготворение плоти и извращение христианского учения. В священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов Христа, — прямо запрещающего кого бы то ни было называть учителями, отцами, наставниками (Мф. ХХШ, 8—10).
Сказано, наконец, как последняя и высшая степень моей виновности, что я, “ругаясь над самыми священными предметами веры, не содрогнулся подвергнуть глумлению священнейшее из таинств — евхаристию”. То, что я не содрогнулся описать просто и объективно то, что священник делает для приготовления этого, так называемого, таинства, то это совершенно справедливо; но то, что это, так называемое, таинство есть нечто священное и что описать его просто, как оно делается, есть кощунство, — это совершенно несправедливо. Кощунство не в том, чтобы назвать перегородку — перегородкой, а не иконостасом, и чашку — чашкой, а не потиром [50] и т. п., а ужаснейшее, не перестающее, возмутительное кощунство — в том, что люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации, — уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при произнесении известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит бог; и что тот, во имя кого живого вынется кусочек, тот будет здоров; во имя же кого умершего вынется такой кусочек, то тому на том свете будет лучше; и что тот, кто съел этот кусочек, в того войдет сам бог.
Ведь это ужасно!
Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение его, которое уничтожает зло мира и так просто, легко, несомненно дает благо людям, если только они не будут извращать его, это учение все скрыто, все переделано в грубое колдовство купанья, мазания маслом, телодвижений, заклинаний, проглатывания кусочков и т. п., так что от учения ничего не остается. И если когда какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих волхвованиях, не в молебнах, обеднях, свечах, иконах — учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны эти обманы, и люди эти во всеуслышание, с непостжимой дерзостью говорят в церквах, печатают в книгах, газетах, катехизисах, что Христос никогда не запрещал клятву (присягу), никогда не запрещал убийство (казни, войны), что учение о непротивлении злу с сатанинской хитростью выдумано врагами Христа.
Ужасно, главное, то, что люди, которым это выгодно, обманывают не только взрослых, но, имея на то власть, и детей, тех самых, про которых Христос говорил, что горе тому, кто их обманет. Ужасно то, что люди эти для своих маленьких выгод делают такое ужасное зло, скрывая от людей истину, открытую Христом и дающую им благо, которое не уравновешивается и в тысячной доле получаемой ими от того выгодой. Они поступают, как тот разбойник, который убивает целую семью, 5—6 человек, чтобы унести старую поддевку и 40 коп. денег. Ему охотно отдали бы всю одежду и все деньги, только бы он не убивал их. Но он не может поступить иначе. То же и с религиозными обманщиками. Можно бы согласиться в 10 раз лучше, в величайшей роскоши содержать их, только бы они не губили людей своим обманом. Но они не могут поступать иначе. Вот это-то и ужасно. И потому обличать их обманы не только можно, но должно. Если есть что священное, то никак уже не то, что они называют таинством, а именно эта обязанность обличать их религиозный обман, когда видишь его.
Если чувашин мажет своего идола сметаной или сечет его, я могу равнодушно пройти мимо, потому что то, что он делает, он делает во имя чуждого мне своего суеверия и не касается того, что для меня священно; но когда люди, как бы много их ни было, как бы старо ни было их суеверие и какими бы могущественными они ни были, во имя того бога, которым я живу, и того учения Христа, которое дало жизнь мне и может дать ее всем людям, проповедуют грубое колдовство, не могу этого видеть спокойно. И если я называю по имени то, что они делают, то я делаю только то, что должен, чего не могу не делать, если я верую в бога и христианское учение. Если же они вместо того, чтобы ужаснуться на свое кощунство, называют кощунством обличение их обмана, то это только доказывает силу их обмана и должно только увеличивать усилия людей, верующих в бога и в учение Христа, для того, чтобы уничтожить этот обман, скрывающий от людей истинного бога.
Про Христа, выгнавшего из храма быков, овец и продавцов, должны были говорить, что он кощунствует. Если бы он пришел теперь и увидал то, что делается его именем в церкви, то еще с большим и более законным гневом наверно повыкидал бы все эти ужасные антиминсы, и копья, и кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и все то, посредством чего они, колдуя, скрывают от людей бога и его учение.
Так вот что справедливо и что несправедливо в постановлении обо мне Синода. Я действительно не верю в то, во что они говорят, что верят. Но я верю во многое, во что они хотят уверить людей, что я не верю.
Верю я в следующее: верю в бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что он во мне и я в нем. Верю в то, что воля бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека — в исполнении воли бога, воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в евангелии, что в этом весь закон и пороки. Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в увеличении в себе любви, что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко все большему и большему благу, дает после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и вместе с тем и более всего другого содействует установлению в мире царства божия, то есть такого строя жизни, при котором царствующие теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей между собою. Верю, что для преуспеяния в любви есть только одно средство: молитва, — не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом (Мф. VI, 5—13), а молитва, образец которой дан нам Христом, — уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от воли бога.
Оскорбляют, огорчают или соблазняют кого-либо, мешают чему-нибудь и кому-нибудь или не нравятся эти мои верования, — я так же мало могу их изменить, как тело. Мне надо самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никак иначе верить, как так, как я верю, готовясь идти к тому богу, от которого исшел. Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой — более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму ее, потому что богу ничего кроме истины, не нужно. Вернуться же к тому, от чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не могу, как не может летающая птица войти в скорлупу того яйца, из которого она вышла.
“Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (свое спокойствие) больше всего на свете”, — сказал Кольридж [51].
Я шел обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти.
4 апреля 1901 года Лев Толстой
Москва»[52].
Любопытно отметить, что редакция петербургского церковного журнала «Миссионерское обозрение», узнав об «Ответе Синоду», 20 мая обратилась к Толстому с телеграфным запросом следующего содержания: «Желательно убедиться, действительно ли писали вы, Лев Николаевич, ответ на постановление св. Синода об отлучении вас от церкви, помеченный 4 апреля. Почитатели опасаются, не подвох ли это клерикалов или услужливых друзей».
На другой день по получении этой телеграммы 21 мая Толстой писал Черткову: «Признаюсь, желал бы очень, чтобы они напечатали мой ответ».
23 мая Толстой ответил редакции «Миссионерское обозрение» телеграммой: «Ответ написан мною. Жалею, не мог напечатать».
Вышедший вскоре в свет «Ответ Синоду» был напечатан с значительными пропусками и только в церковных изданиях, выходивших под контролем духовной цензуры, с запрещением перепечатки. В примечании цензора отмечено, что в статье пропущено приблизительно сто строк, в которых «граф Толстой нападает на таинства христианской веры и церкви, иконы, богослужение, молитвословие и пр.», и что печатать это место нашли «невозможным, не оскорбляя религиозного чувства верующих людей» [53].
Полный текст «Ответа Синоду» впервые был напечатан в Англии в «Листках свободного слова» № 22 за 1901 год и перепечатан несколькими зарубежными издательствами. В России «Ответ» выходил полностью в 1905 и 1906 годах [54], но уже в 1911 году, по постановлению Московской судебной палаты, он был вырезан из книги сочинений Толстого, выпускаемой в том году.
«Ответ Синоду» обобщает три основные темы.
Первая: протест против определения синода, которое Толстой рассматривает как «клевету и подстрекательство к дурным чувствам и поступкам».
Вторая: подтверждая свое отречение от церкви, Толстой с особенной силой вновь выступает против учения церкви, которое он характеризует как «коварную и вредную ложь, собрание самых грубых суеверий и колдовcтва», приемами которого являются различные обряды, приспособленные ко всем случаям жизни, для чего священники за приношения от верующих произносят «известные заклинания».
Третья: «отвергая непонятную троицу и... басню о падении первого человека, кощунственную историю о боге, водившемся от девы», Толстой выступает с кратким изложением своего признания бога, как «бога — духа, бога — любовь, единого бога — начало всего» и заявляет, что весь смысл жизни видит только в исполнении воли бога, выраженной в христианском учении. «Воля же его в том, чтобы люди любили друг друга». Прогрессирующее увеличение этой любви способствует установлению в мире «такого строя жизни, при котором царствующие теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей между и собою».
«Ответ Синоду», несомненно, является одним ив самых глубоких и сильных выступлений Толстого против церкви, с одной стороны, и изложением «символа веры» самого Толстого — с другой. Он вызвал множество полемических выступлений духовенства на страницах церковных изданий. Нет необходимости останавливаться на риторических упражнениях богословов в их полемике с Толстым, так как все они, ссылаясь на евангельские тексты, пытались доказать недоказуемое о бытии бога и непогрешимости церкви.
Для определения степени усердия, проявленного иерархами и церковными апологетами в пылу защиты расшатанных основ церкви, достаточно сослаться на сборник статей «Миссионерского обозрения» «По поводу отпадения от православной церкви графа Льва Николаевича Толстого», изданный редактором этого журнала В. М. Скворцовым в 1904 году вторым дополненным изданием, в котором на 569 страницах приведены все статьи, напечатанные в этом журнале с 1901 года в связи о отлучением Толстого и толстовской критикой православия.
В сборнике сделана подборка материалов — очерков по группам авторов: вначале — церковнослужители, затем приводятся отклики «бывших единомышленников графа Толстого» — М. А. Новоселова и М. А. Сопоцько. В помощь им привлекаются «Голоса из среды мирян», как-то «Известный вам врач Апраксин», «Деятель», «П. П. Т.» и др.
И хотя цель сборника заключалась не только в том чтобы собрать воедино всю церковную полемическую литературу, направленную против «лжеучения яснополянского мыслителя», но и подчеркнуть, что церковь не «отлучала» Толстого, а только засвидетельствовала факт «отпадения» от нее Толстого, все же авторы в большинстве случаев применяли термин «отлучение», например «нечто похожее на отлучение, хотя и в мягкой форме», «справедливость и неизбежность отлучения», «от единения с церковью отлучается» и т. д. Реплики по адресу Толстого свидетельствуют о крайней озлобленности иерархов. Такие выражения, как «теоретические мудрования», «религиозное лжеучение», «лжеучитель», «еретик», «отступник» с добавлением всякий раз «яснополянский» встречаются почти на каждой странице. Но все это бледнеет перед лексикой выступавшего в сборнике Иоанна Кронштадтского [55]: «безбожная личность», «дерзкий отъявленный безбожник, подобный Иуде предатель», «апокалипсический дракон», «отец дьявола», «порождение ехидны», «Лев рыкающий, ищущий кого поглотить» и т. п.
* * *
Признание Толстым бога — духа, бога — любви, наступления царства божьего, основанного на любви, не могло не вызвать серьезных возражений. Толстой не был атеистом. Выступая против церкви, он верил в существование бога, но только его путь к пониманию бога расходился с православной церковью и представлял собой нечто свое, обособленное, толстовское, порожденное сложным и противоречивым отношением его к религии.
У него, как указывал В. И. Ленин, «борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс».
И далее: «...в наши дни, — писал В. И. Ленин в январе 1911 года, — всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его “непротивленства”, его апелляций к “Духу”, его призывов к “нравственному самоусовершенствованию”, его доктрины “совести” и всеобщей “любви”, его проповеди аскетизма [56] и квиетизма [57] и т. п. приносит самый непосредственный и самый глубокий вред» [58].
Ошибка Толстого коренилась в его убеждении, что только на путях очищенной религии, только религиозным воспитанием возможно достичь идеального общества.
В статье «О существующем строе» (1896 г.) Толстой заявлял, что «уничтожиться должен строй соревновательный и замениться коммунистическим; уничтожиться должен строй капиталистический и замениться социалистическим; уничтожиться должен строй милитаризма и замениться разоружением и арбитрацией... одним словом, уничтожиться должно насилие и замениться свободным и любовным единением людей».
Но для воплощения этих социалистических по существу идеалов Толстой предлагал наивные средства: «не участвовать в том насильственном строе, который мы отрицаем», «думать только о себе и своей жизни», «угнетатели и насильники должны раскаяться, добровольно отказаться от эксплуатации народа и слезть с его шеи».
Разоблачая несостоятельность и реакционность толстовского учения о непротивлении злу насилием, видя в толстовстве «тормоз революций», В. И. Ленин в то же время отдавал должное заслугам великого писателя в его борьбе с «чиновниками в рясах» и «жандармами во Христе».
В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» В. И. Ленин писал: «Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого — действительно кричащие. С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе... С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны, — юродивая проповедь “непротивления злу” насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок; с другой стороны, — проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины» [59].
* * *
В чем же был смысл отлучения? Был ли это акт, завершающий длительную борьбу правительства и церкви с Толстым, или только эпизод в этой борьбе, которая после отлучения должна была принять более ожесточенный характер, чтобы наконец сломить волю упорствующего Толстого, поставить его на колени, заставить отречься от всего написанного и сказанного в обличение самодержавия, правительства, религии и церкви?
О том, какой серьезной опасностью угрожало Толстому отлучение, достаточно ясно сказано им самим в «Ответе Синоду».
Определение синода не было безобидным пастырским посланием, «свидетельством об отпадении от церкви». Оно являлось замаскированным призывом к темной толпе изуверов физически расправиться с Толстым. Синод «выдал» Толстого толпе фанатиков и «умыл руки». Охраняемая всеми установлениями и законами Российской империи, направленными к утверждению самодержавия и православия, церковь была оплотом и вдохновителем реакции, и данный отлучением сигнал к расправе с Толстым представлял собой прямой призыв к преследованию «еретика и вероотступника».
Полицейско-жандармский аппарат и царская цензура пытались изолировать Толстого от общества. Газетам и журналам было запрещено печатание сведений и статей, имеющих отношение к отлучению. Принимались все меры к тому, чтобы пресечь какие бы то ни было выступления в знак солидарности с Толстым.
Однако все это натолкнулось на массовый протест, а осуждение и резкая критика определения вызвали такое смятение в среде высших иерархов церкви, что понудило синод к выступлениям в защиту и оправдание этого акта.
Сам Толстой остался, как и прежде, неуязвимым ко всякого рода нападкам, откуда бы они ни исходили; он был вне их досягаемости, как общепризнанный непререкаемый авторитет.
«Отлученный» Толстой с неменьшей силой и энергией снова и снова выступает против царского произвола и беззакония.
 |
«Прошло немногим более недели со дня отлучения Толстого от церкви, как общественное мнение России было взволновано и возмущено новым репрессивным актом самодержавия. 4 марта 1901 года в Петербурге, на площади у Казанского собора, полиция напала на демонстрацию и зверски избила многих ее участников. Волна протеста прокатилась по всей стране.
Узнав об этом, Толстой сейчас же отозвался, послав приветственный адрес комитету Союза взаимопомощи русским писателям, закрытому правительством за то, что его члены решительно протестовали против полицейской расправы с участниками демонстрации, и сочувственное письмо Вяземскому [60], пострадавшему за попытку остановить избиение казаками и жандармами безоружных демонстрантов. Под впечатлением этого события и полицейских репрессий против студентов Толстой пишет свое обращение “Царю и его помощникам”, оставшееся без ответа» [61].
Позднее, в письме Николаю II 16 января 1902 года «о жестокой деятельности правительства», о нищете и голоде, о «всеобщем недовольстве правительством всех сословий и враждебном отношении к нему», Толстой пытается внушить царю, что «самодержавие есть форма правления отжившая», не соответствующая «требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением».
Известный в свое время реакционный журналист А.С. Суворин записал в своем дневнике: «Два царя у нас: Николай второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии. Его проклинают, синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджимает хвост» [62].
Епископам внушалось: не быть «дерзкими и скорыми» в употреблении власти своей в отлучении и анафеме.
Из духовного регламента Петра I
В журнале «Знание — сила» № 12 за 1965 год была помещена заметка: «Предали ли Толстого анафеме?», в которой разъяснялось, что Толстой не был предан анафеме, как это ошибочно утверждалось в одном из предыдущих номеров этого журнала в очерке «История одного отлучения».
Это не единственный случай путаницы относительно анафемы, которой якобы был предан Толстой. Поэтому, чтобы предостеречь от аналогичных ошибок и, наконец, внести полную ясность, коротко расскажем о возникновении и истории церковного проклятия, именуемого анафемой.
Анафема — орудие религиозного террора, применявшееся церковниками многих вероисповеданий для запугивания верующих и разжигания религиозного фанатизма, для достижения определенных политических целей, для борьбы с наукой и передовой общественной мыслью.
Вторая неделя великого поста носит название недели православия. Так называется она потому, что по древнему уставу восточной православной церкви в первое воскресенье великого поста совершается церковный обряд по особому «чину» [63], в воспоминание «торжества православия». Обряд этот был установлен в 942 году на Константинопольском соборе в память восстановления иконопочитания (поклонения иконам. — Г. П.), до этого преследовавшегося в течение 143 лет по указу византийского императора Льва III.
Из Византии «чин торжества православия» пришел в русскую церковь вместе с прочими обрядами. Но постепенно имена проклинаемых византийской церковью исключались русской церковью и заменялись именами русских еретиков, расколоучителей и государственных преступников.
Со временем число анафематствованных настолько возросло, что дважды (в 1767 и 1850 гг.) перечень проклинаемых сокращался за счет исключения «еретиков и отступников», деяния которых совершены были в столь отдаленные времена, что потеряли всякую актуальность.
В старину обряд анафематствования совершался особо торжественно. Цари Михаил Федорович и Алексей Михайлович слушали «чин» в Московском Успенском соборе в Кремле в парадном царском одеянии со всеми регалиями, восседая близ патриарха на обитом бархатом «государевом месте».
Впоследствии на анафематствование стали смотреть как на пережиток старины, однако в 1918 году патриарх Тихон вновь прибегнул к этому обряду, надеясь с его помощью восстановить против Советской власти отсталые слои населения.
В исследовании петербургского священника церкви «Успения Пресвятыя Богородицы, что на Сенной» Константина Никольского (Анафематствование. СПБ, 1879) указывается, что анафематствование (отлучение от церкви), совершаемое в первую неделю великого поста, именуемое также «чином православия», в русской православной церкви подвергалось неоднократным изменениям, исправлениям и унификации, так как по разным епархиям по своему содержанию и изложению «чины» разнились и в каждом из них были свои, местные особенности.
Так, в 1766 году Ростовский митрополит Арсений Мациевич проклял в неделю православия «отнимающих от монастырей имения церковные», в их числе Екатерину II — инициатора изъятия у монастырей земель с крепостными крестьянами для раздачи своим фаворитам. Тотчас из Петербурга в Ростовскую епархию был послан лейб-гвардии Преображенского полка прапорщик Лев Толстой (интересное совпадение!) для отобрания «чинов православия» из Ростовского кафедрального собора. Мациевич был сослан в монастырь, а «чин» переделан синодом и представлен «на милостивое утверждение» царице. Царица передала новый «чин» обер-прокурору синода Мелиссино с надписью, что «полагается на мнение Синода».
При утверждении нового «чина православия» синод установил правило, чтобы совершение «чина» принадлежало только одним архиереям (до того оно совершалось также настоятелями монастырей — игумнами). В указе Синода утверждалось, чтобы «оная церемония отправляема была в одних только кафедральных соборах самими епархиальными преосвященными архиереями соборне», т. е. в сослужении с епархиальным духовенством.
Согласно «Последованию в неделю православия», изданному в 1869 году в Петербурге, анафематствование отдельных лиц было прекращено вовсе. Анафематствоваться стали все вообще, отрицающие бытие божие и то, что бог — дух, отрицающие святую троицу, пришествие в мир спасителя, его искупительную жертву, сомневавшиеся в девственности богоматери до и после рождения Христа, не верующие в святого духа, в бессмертие души, конец света и осуждение за грехи, отвергающие святые таинства и церковные соборы и их предания, не признающие божьего благоволения на государях и дерзающие на бунт против них, ругающие иконы и называющие их идолами.
 |
Несомненный интерес представляет рассказ старейшего писателя москвича Н Д. Телешова, присутствовавшего в соборе при совершении «чина православия»:
«В конце этой первой строгой недели (великого поста. — Г. П.), в так называемое “соборное воскресенье”, в Кремле, в старинном историческом Успенском соборе, ярко и парадно освещенном всеми паникадилами, при архиерейском служении, совершался за обедней ежегодно торжественный “чин православия”.
Под громкое и торжественное пение огромного синодального хора с его звучными молодыми голосами выходили молча из алтаря священники в парчевых ризах и облачениях, человек двадцать, если не более, — одни из северных дверей алтаря, другие из южных, — и становились полукружием возле архиерейского места среди храма, охватывая как бы подковой это возвышение со всех трех сторон. Вслед за священниками выходил из алтаря и протодьякон — знаменитый в свое время Розов, весь в золоте, с пышными по плечам волосами, рослый и могучий, и среди храма, переполненного нарядной публикой громогласно, высокоторжественно и сокрушительно порицал всех отступников православия, отступников веры, еретиков и всех не соблюдающих посты, всех не верующих в воскресение мертвых, в бессмертие души, отвергающих божественное происхождение царской власти. Таких категорий было до двенадцати, и после каждой из них протодьякон в заключение возглашал густым, ревущим басом:
— А-на-фе-ма!
Стекла дребезжали от могучего протодьяконского голоса. От проклинающего рева вздрагивали скромньм огоньки церковных свечей. А окружающие протодьякона многочисленные священники отвечали ему громкими, густыми басами и звонкими тенорами, общим зловещим хором восклицая трижды:
— Анафема! Анафема! Анафема!
Тяжелое и жуткое впечатление производила эта торжественная сцена.
В более ранние времена возглашали анафему еще и персонально: “Самозванцу, еретику Гришке Отрепьеву расстриге” (за свержение царя Бориса Годунова) [64] Ивану Мазепе (за измену царю Петру). А руководителям крестьянских восстаний, с целью унизить их в глазах современного народа, в соборе возглашали анафему там “вору, изменнику и душегубу Стеньке Разину” и “кровопийце, бунтовщику Емельке Пугачеву”, а также проклинали и вообще “всех дерзающих на бунт и измену”.
Но потом именные проклятия с амвона были прекращены, и на моей памяти их уже не было» [65].
Незнание обряда анафематствования привело к неправильному истолкованию того, что было в свое время написано об отлучении Толстого С. Г. Скитальцем [66], В. Д. Бонч-Бруевичем и А. И. Куприным.
Так, С. Г. Скиталец вспоминает: «...когда в “недели православия” по всей стране во всех кафедральных соборах чудовищные протодьаконы громоподобно предавали анафеме рядом с именами Гришки Отрепьева и Стеньки Разина имя великого писателя, которым гордилась страна...» [67]. Зная, что в те годы поименного анафематствования уже не производилось, мы понимаем, что в данном случае Скиталец отклоняется от достоверности для усиления своего возмущения отлучением Толстого.
Прочитав в журнале «Огонек» (1926, № 46) очерк В. Д. Бонч-Бруевича, многие исследователи жизни и творчества Л. Н. Толстого включали его в свои работы, воспринимая «анафему» как проклятие, произнесенное сначала в Успенском соборе, а затем во всех церквах. В действительности же имело место оглашение с церковных амвонов текста определения синода об отлучении Толстого и соответствующих поучений, о чем ранее нами было рассказано по воспоминаниям Бонч-Бруевича.
Итак, анафематствование производилось только один раз в году и только в кафедральных соборах (по одному на каждую губернию) при обязательном архиерейском служении в первое воскресенье великого поста [68], а поименный перечень проклинаемых задолго до 1901 года был отменен. Отсюда вывод: Лев Толстой установленному канонами церковному проклятию предан не был и отнюдь не по сердечной доброте членов синода. Напротив, «святые отцы» преследовали другую цель — проклинать ненавистного им Толстого ежедневно, ежегодно, до самой смерти и даже после нее. И эту травлю великого писателя синод осуществил всеми доступными ему средствами и устно и печатно. Это было во много раз сильнее единожды в году произнесенной «анафемы». Только такой непоколебимый и сильный духом человек, как Лев Толстой, мог противостоять бесконечным злобным нападкам церковников...
 |
А как же, спросят, Куприн написал рассказ «Анафема», когда ее не было на самом деле?
Этот рассказ А. И. Куприна, написанный в январе 1913 года в Гатчине, представляет собой не документальное повествование, а политически заостренный художественный вымысел автора, направленный против самодержавия и церкви.
Смерть Толстого потрясла Куприна, питавшего огромное уважение к писателю и благоговение перед его великим талантом.
И вот в феврале 1913 года в журнале «Аргус» № 2 и одновременно в газете «Одесские новости» появился его рассказ «Анафема», в котором соборный протодиакон Олимпий [69] вместо анафемы Толстому, к ужасу всего присутствующего в соборе духовенства, провозгласил: «Земной нашей радости, украшению и цвету жизни, воистину Христа соратнику и слуге, болярину Льву... Многая ле-е-е-та-а-а-а».
Несмотря на то что сюжет рассказа, как уже сказано, не соответствовал истине, правительство, понимая, как сильно отзовется рассказ в умах и сердцах народа, недавно похоронившего Толстого, приняло меры к тому, чтобы воспрепятствовать выходу в свет этого произведения.
Весь тираж журнала «Аргус» был конфискован по постановлению Петербургского окружного суда и сожжен. Попытка Куприна включить рассказ в собрание сочинений также потерпела неудачу.
* * *
Толстой, не признававший и осуждавший церковную обрядность, до последнего года жизни не интересовался вопросом, был ли он предан церковному проклятию. Только однажды, как об этом свидетельствует приведенный ниже диалог с его секретарем Булгаковым, он случайно коснулся этой темы.
«...Лев Николаевич, зашедший в “ремингтонную” [70], стал просматривать лежавшую на столе брошюру, его “Ответ синоду”. Когда я вернулся, он спросил:
— А что, мне “анафему” провозглашали?
— Кажется, нет.
— Почему же нет? Надо было провозглашать... Ведь как будто это нужно?
— Возможно, что и провозглашали. Не знаю. А Вы чувствовали это, Лев Николаевич?
— Нет, — ответил он и засмеялся...» [71]
О примирении речи быть не может.
Л. Н. Толстой
Вслед за отлучением, вызвавшим столь бурное негодование русского общества, наступил новый этап преследований Толстого реакционными силами. Этот период (1901—1910 гг.) характерен полицейской активностью, цинизмом правительственных органов и лицемерием церковников, потерявших в глазах общества авторитет в связи с провалом своей затеи с отлучением.
Синод был вынужден, с одной стороны, сохранять видимость действенности отлучения и, следовательно, принимать меры, вытекающие из этого положения, а с другой — прибегать к всевозможным ухищрениям с целью вырвать у Толстого хотя бы намек на то, что он согласен примириться с церковью, и иметь пусть даже незначительный повод для того, чтобы объявить свое «определение» утратившим силу.
В то время когда в церковных поучениях и проповедях, в статьях со страниц духовных журналов и черносотенных газет не переставая изливается поток проклятий и ругани на голову «яснополянского ересиарха и лжеевангелиста», в Ясную Поляну идут призывы церковников к примирению с церковью.
 |
Обратимся к дневниковым записям С. А. Толстой.
15 февраля 1902 года Софья Андреевна получила от митрополита Антония письмо, увещевающее ее убедить Льва Николаевича вернуться к церкви, примириться с церковью и помочь ему умереть христианином. По поводу этого письма Толстой сказал: «О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом?»
25 февраля С. А. Толстая отметила в своем дневнике, что и Толстой получил два письма, убеждающие его «вернуться к церкви и причаститься», и Софья Андреевна получила письмо от Дондуковой-Корсаковой [72], советующей, чтобы она «обратила Льва Николаевича к церкви и причастила».
9 августа С. А. Толстая записала в дневнике: «Священники мне посылают все книги духовного содержания с бранью на Льва Николаевича».
31 октября 1902 года в Ясную Поляну к Толстому приезжал из Тулы священник, взявший на себя «труд быть увещателем графа Л. Толстого». Обычно и прежде дважды в год этот священник посещал Ясную Поляну. Толстой принимал его, приглашал иногда к столу, но от бесед по вопросам веры отказывался.
Правительственные органы постоянно опасались возможных беспорядков, связанных с именем Толстого.
Всем губернаторам предложено было принять к исполнению секретный циркуляр Главного управления по делам печати Министерства внутренних дел от 26 марта 1901 года за № 2519:
«После обнародования послания Святейшего Синода о графе Л. Н. Толстом газеты стали усиленно печатать телеграммы и известия, выражающие сочувствие этому писателю.
Ввиду того, что выражение в печати сочувствия графу Толстому при настоящих условиях приобретает характер как бы протеста против послания Святейшего Синода, Главное Управление по делам печати, по приказанию г. Министра Внутренних Дел имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать зависящее распоряжение о том, чтоб подобного рода телеграммы и известия не были дозволяемы к печати в повременных изданиях».
Встревоженный неожиданной враждебной реакцией передовой русской общественности на отлучение Толстого, Победоносцев пытается что-то предпринять, чтобы остановить поток нареканий на синод и правительство.
Интересны два его письма к редактору «Церковных ведомостей» П. Смирнову: Если в первом — 22 марта 1901 года он пока еще констатирует «какая туча озлобления поднялась за послание...», то во втором он рекомендует светской печати заимствовать статьи о Толстом из духовных журналов. Приводим полностью это любопытное письмо.
«1901 г. апреля 16. Петербург.
Журналам и газетам указано не помещать статей о Толстом по поводу послания синода, для того чтобы избежать неприличных нареканий на суждение синода, коих можно было ожидать от развратной печати. По моему мнению, напрасно, ибо теперь многие высказывались бы в желаемом смысле.
Но это запрещение не простирается на издания церковные, и министр внутренних дел высказывается в том смысле, что пусть де светские журналы заимствуют свободно статьи из духовных журналов.
А в духовных кое-что стало уже появляться. Вот статьи, по-моему, прекрасные в “Полтавских ведомостях” (№ 10 и 11) [73]. Желательно было бы и полезно было бы эти статьи целиком перепечатать в Церковных Ведомостях, и вскоре» [74].
После отлучения Толстого цензура ужесточила надзор не только над его произведениями, запретив печатание многих из них, но даже над изданием портретов писателя.
«В конце марта 1901 года, — сообщает И. Ковалев, — в Цензурном Комитете было заведено “Дело № 103” под наименованием: “По недозволенным портретам графа Л. Н. Толстого”, начало которому было положено секретным предписанием цензурного комитета всем цензорам о запрещении печатания и распространения портретов писателя.
На основании этого циркуляра был запрещен для печати в журнале “Литературный вестник” портрет Л. Н. Толстого работы художника И. Е. Репина. В том же году было отказано в публикации портретов писателя журналам “Наше время” и “Искусство и художественная промышленность”».
Подвергались цензурным преследованиям и почтовые открытки с изображением Толстого. Так, на основании распоряжения министра внутренних дел 25 августа 1901 года было запрещено издание открыток с портретом Толстого, исполненным Репиным. В 1902 году была запрещена для издания открытка — фотография Л. Н. Толстого и М. Горького.
* * *
Директивы не допускать никаких речей, действий и манифестаций стали типичными для полицейских шифровок, которые рассылались по разным направлениям в связи с какими-либо выездами Толстого из Ясной Поляны, с его юбилейными датами, с болезнью. Особенно цинична своеобразная генеральная «репетиция», проведенная правительством в 1901—1902 годах на случай смерти Толстого. Начало этой репетиции относится ко времени, когда писатель, находясь в Крыму, заболел. В июле 1901 года во все концы России полетела телеграмма министерства внутренних дел с предписанием проявлять строжайшую бдительность в случае кончины Толстого. Когда в декабре 1901 — январе 1902 года возникло опасение, что болезнь угрожает его жизни, правительственные органы развернули лихорадочную деятельность. Любопытно содержание заблаговременно заготовленного секретного письма министра внутренних дел обер-прокурору синода К. П. Победоносцеву (в нем оставлено место для даты, так как Толстой был жив): «Имею честь сообщить Вашему Превосходительству для сведения, что мною сего числа разрешено таврическому губернатору выдать свидетельство на перевоз тела графа Толстого из Ялты в Ясную Поляну».
Заготовлена была также за подписью директора Департамента полиции директива ряду губернаторов: «Тело графа Толстого перевозится из Ялты в Ясную Поляну. Отправление... (оставлено свободное место для даты) числа. Благоволите принять зависящие меры к воспрепятствованию каких-либо демонстраций по пути. Директор Зволянский... (свободное место) января 1902 г.».
Меры, предупреждающие общественные демонстрации, были разработаны с иезуитской предусмотрительностью. Согласно плану министерства путей сообщения, одобренному министерством внутренних дел, почтовый поезд с траурным вагоном должен прийти в Харьков с опозданием до сорока минут, а отправлен из Харькова «своевременно, не взирая на задержку почты». Так собрались предотвратить «общественные изъявления» по поводу смерти Толстого по пути следования гроба с его телом.
Тогда же министерство внутренних дел дало распоряжение не служить панихиды по Толстому, не разрешать печатания объявления о панихидах, «а равно принять меры к устранению всяких демонстративных требований о служении панихид».
Было сделано все возможное и для инсценировки мнимого раскаяния Толстого перед смертью.
Осень 1901 года Толстой проводил на Южном берегу Крыма в Гаспре, в имении графини С. В. Паниной, предоставившей в его распоряжение двухэтажный дом, расположенный высоко над морем, с парком, с открытыми на море широкими верандами и домовой церковью, которая, разумеется, могла посещаться духовенством для совершения богослужений. Когда Лев Николаевич заболел настолько тяжело, что стали опасаться за его жизнь, Победоносцев, узнав об этом, принял самое неожиданное и невероятное решение: инсценировать его раскаяние. Он отдал распоряжение местному духовенству, чтобы, как только станет известно о кончине писателя, священник, пользуясь правом посещения домовой церкви, вошел в дом, а затем, выйдя оттуда, объявил бы окружающим, что граф Толстой перед смертью покаялся, вернулся в лоно православной церкви, исповедался и причастился и духовенство и церковь радуются возвращению блудного сына.
Кощунственная ложь должна была подменить то, что не могли сделать десятки лет гонений и преследований Толстого правительством и церковью. Выздоровление писателя помешало осуществлению этого возмутительного замысла.
В воспоминаниях Горького о Софье Андреевне Толстой записано:
«...Толстой был настолько опасно болен, что, ожидая его смерти, правительство уже прислало из Симферополя прокурора, и чиновник сидел в Ялте, готовясь, как говорили, конфисковать бумаги писателя. Имение графини С. Паниной, где жили Толстые, было окружено шпионами, они шлялись по парку, и Леопольд Сулержицкий [75] выгонял их, как свиней из огорода. Часть рукописей Толстого Сулержицкий уже тайно перевез в Ялту и спрятал там» [76].
* * *
В этот период усилилось озлобление темных сил, искусственно подогреваемое религиозным фанатизмом. В те годы, когда влияние церкви еще не было подорвано в широких массах, слова «определения», возвещающие всему миру, что «граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на господа, и на Христа его и на святое его достояние...» таили в себе страшную угрозу. Толстому была противопоставлена несметная толпа изуверов-фанатиков, готовых на любое преступление.
Бесстрашие, стойкость и мужество проявил Толстой в годы, когда в связи с отлучением от церкви на него поднялась невиданная волна травли, сопровождавшаяся наглыми и грубыми угрозами, тем более что еще до отлучения он уже получал письма с угрозами расправы. Например, в декабре 1897 года ему было прислано анонимное письмо «члена подпольного общества вторых крестоносцев» с угрозой убить его, как «законоположника» секты, оскорбляющей «господа нашего Иисуса Христа», и как «врага нашего царя и отечества».
С особенным остервенением и сладострастием в травлю Толстого включилось духовенство, конечно, с ведома и по наущению синода.
Биограф Толстого П. И. Бирюков приводит следующее письмо, опубликованное в газете «Наши дни»:
 |
Фрагмент стенной росписи из церкви села Тазова Курской губернии. Из собрания Музея истории религии и атеизма |
«В 12 верстах от Глухова находится монастырь “Глинская пустынь”, вот уже третий год привлекающий общее внимание злободневной картиной, нарисованной масляными красками на монастырской стене и изображающей графа Л. Н. Толстого, окруженного многочисленными грешниками, среди которых, судя по подписи, можно найти Ирода Агриппу, Нерона, Трояна и др. “мучителей”, еретиков и сектантов.
Картина называется “Воинствующая церковь”; среди моря стоит высокая скала и на ней церковь и праведники; внизу мятущиеся грешные души; по правую сторону горят в неугасимом огне враги церкви, уже отошедшие в лучший мир, а по левую — наши современники в сюртуках, блузах и поддевках мечут камни и палят из ружей в ту скалу, на вершине которой стоит храм. Под каждым действующим лицом имеется №, а сбоку — пояснение: бегуны, молокане, духоборы, скопцы, хлысты, нетовцы, перекрещенцы, пашковцы, штундисты и т. д.
На видном месте картины изображен старик в блузе и шляпе, над ним стоит № тридцать четвертый, а сбоку комментарий: “Искоренитель религии и брачных союзов”. Прежде на шляпе у “искоренителя религии и брачных союзов” имелась надпись “Л. Толстой”...
Возле злободневной картины то и дело толпятся богомольцы, а кто-нибудь из братии с пафосом дает им соответствующие разъяснения:
— Еретик он и богоненавистник! И куда смотрят! Рази так нужно? В пушку бы его зарядил — и бах! Лети к нехристям, за границу, графишка куцый!..
И проповедь имеет успех. Из соседнего села Шалыгина приходил к игумену крестьянин-мясник и просил благословения на великий подвиг:
— Подойду я к старику тому, разрушителю браков, — рассказывал крестьянин свой план, — как будто за советом, а там выхвачу нож из-за голенища, и — кончено!..
— Ревность твоя угодна Богу, — ответил игумен, — а благословения не дам, потому все-таки придется ответствовать...» [77]
Реакционная печать, угодливо стремясь внести и свою «посильную лепту» в организованную правительством и церковью травлю великого писателя, взывала к властям от имени так называемых «истинно русских» людей с требованием предать Толстого суду. Эта кампания в печати продолжалась до самой его смерти. Так, в феврале 1910 года в одной из черносотенных газет была напечатана статья, которая заканчивалась таким недвусмысленным предложением: «Следовало бы правительству, наконец, подумать об этом, добраться до Ясной Поляны и разорить это вражье гнездо клевретов антихриста, пока сам народ русский не посягнул на это» («Ивановский листок», 1910, 14 февраля).
Ко всем многочисленным угрозам Толстой относился спокойно. Н. Н. Гусев так рассказывает об одном эпизоде, случившемся в 1907 году:
«Недавно была угрожающая телеграмма из Подольска: “Ждите. Гончаров”. Это уже вторая от того же неизвестного человека; первая была: “Ждите гостя. Гончаров”.
Софья Андреевна беспокоится, а Лев Николаевич относится к этой угрозе совершенно равнодушно» [78]. Несколькими годами раньше Толстой записал в дневнике по такому же поводу: «Получены угрожающие убийством письма. Жалко, что есть ненавидящие меня люди, но мало интересует и совсем не беспокоит».
Толстой, однако, понимал, что за обещаниями расправы с ним, за письмами с угрозами, которые он все время получал, стояли вполне определенные силы реакции.
Семь лет, прошедших после отлучения, Лев Николаевич жил в атмосфере травли и улюлюкания со стороны реакционных элементов — «истинно русских» черносотенцев, духовенства и всей своры «верноподданных», но в то же время и в обстановке безграничной любви всего мыслящего человечества, и в первую очередь демократического русского общества.
Наступил 1908 г. 28 августа великому писателю исполнялось 80 лет со дня рождения. Реакция решила сорвать празднование этого юбилея, русское передовое общество ответило на это повсеместными юбилейными собраниями и выступлениями вопреки административным запретам, не взирая на препятствия, чинимые полицией и духовенством.
Легальная русская пресса, переполненная статьями, письмами и заметками по поводу юбилея 80-летия Толстого, всего меньше интересуется анализом его произведений с точки зрения характера русской революции и движущих сил ее. Вся эта пресса до тошноты переполнена лицемерием…
В. И. Ленин
Вся передовая Россия, весь мир отмечали как событие мирового значения восьмидесятилетие со дня рождения русского писателя и мыслителя. Бесчисленное множество приветствий и благодарности великому человеку шло в Ясную Поляну со всех концов России, из всех стран мира.
В связи с этим юбилеем В. И. Лениным была написана статья «Лев Толстой, как зеркало русской революции». Прежде всего она была направлена против официальной прессы и против либерально-буржуазных литературоведов и политиков, ханжески прославлявших Толстого как «великого богоискателя». Разоблачая лицемерие этих похвал, Ленин показывает, что является действительно гениальным, действительно великим в творчестве писателя.
Подготовка к юбилею проходила в напряженной обстановке острой общественно-политической и литературной борьбы. Весной 1908 года черносотенная печать, дипломатично поддержанная официальными газетами, организовала травлю Толстого, осыпая его бранью, призывая заодно к расправе с «инородцами» и «всеми врагами престола».
Черносотенец Сопоцько в издаваемом им журнальчике «Студент-христианин» (1908, № 11—12, с. 30) писал по поводу юбилея Толстого: «Мы считаем грубой ошибкой власти гражданской, что... Толстой остается безнаказанным даже доселе. Если бы его замуровали в Соловки еще в 1885 году, это было бы спасительно и благотворно прежде всего для самого Толстого, не говоря уже о “малых сих”, которых он соблазнил и погубил... По поводу 80-летия Толстого мы возглашаем: “...Толстому — анафема!”»
 |
«Откликнулся» на юбилей и мракобес Иоанн Кронштадский, сочинивший молитву о скорейшей смерти юбиляра: «Господи, умиротвори Россию ради церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, прекрати мятеж и революцию, возьми с земли хулителя Твоего, злейшего и нераскаянного Льва Толстого и всех его горячих последователей».
«...По всей России идет теперь исступленный поход против великого писателя, — писал В. Г. Короленко, — и против его чествования благодарным русским обществом, а известному кронштадтскому иерею даже приписывали особую молитву, очень напоминающую доклад по департаменту о необходимости скорейшей административной высылки великого писателя за пределы этого мира: он будто бы кощунственно просил у бога скорейшей смерти Толстому» [79].
Иоанн Кронштадтский опровергает сообщение газет о том, будто он молился о «ниспослании» смерти Льву Толстому: «Я молюсь о нем постоянно, чтобы господь направил его на путь истины... Но такой молитвы я не говорил никогда и нигде», — ответил он на вопрос корреспондента «Петербургской газеты».
Хотя Иоанн Кронштадтский официально отрекся от авторства «молитвы», однако проводимая и раздуваемая им многолетняя злобная травля Толстого дает основание считать, что слухи эти были не беспочвенны.
Апофеозом всей этой кампании явилось опубликование 24 августа в саратовском «Братском листке» перепечатанного черносотенными газетами «архипастырского обращения» епископа Гермогена «по поводу нравственно беззаконной затеи некоторой части общества... торжествовать юбилейный день анафематствованного безбожника и анархиста-революционера Льва Толстого».
Этот номер «Братского листка», а также различные черносотенные прокламации, направленные против чествования Толстого, распространялись, понятно, беспрепятственно.
Однако несмотря на всяческие препоны, чинимые властями и церковью, призывавшими отказаться от чествования «богоотступника», передовые круги русского общества все же использовали все легальные и нелегальные возможности, чтобы, обойдя препятствия, отдать должное таланту великого писателя. Не осталась в стороне и Академия наук. Журнал «Нива» (1909, № 4), хотя и с опозданием, поместил снимок с надписью: «Чествование Л. Н. Толстого в Академии наук по поводу 80-летия его рождения» с указанием фамилий академиков, сидевших в президиуме: П. О. Морозов, А. Ф. Кони, Н. Кондаков, А. А. Шахматов, Д. И. Овсянико-Куликовский. По цензурным условиям никакого описания чествования приведено не было.
* * *
Как же готовились к юбилею Толстого полиция и церковь?
18 марта 1908 года департамент полиции разослал губернаторам, градоначальникам, начальникам жандармских управлений и охранных отделений циркуляр о наблюдении за тем, чтобы чествование Толстого «не сопровождалось нарушением существующих законов и распоряжений правительственной власти».
Аналогичные указания были даны Столыпиным всем губернаторам. Все пришло в движение. Цензура набросилась на печать, не пропуская никакого «восхваления врага православной церкви и существующего в империи государственного строя», во многих городах была приведена в полную готовность полиция.
Таким образом, полиция вынуждена была признать, что чествования Толстого все-таки будут; воспрепятствовать этому она была не в силах и роль ее сводилась к тому, чтобы все прошло тихо-мирно, без демонстраций и шума.
Но церковь стояла на других позициях. Она не хотела допустить самого чествования отверженного ею Толстого. Но и на этот раз она потерпела поражение, еще раз показав всему миру свою архиреакционную сущность.
Кампания церковников против чествования Толстого началась постановлением IV Всероссийского миссионерского съезда 25 июля 1908 года в Киеве (приводится в сокращении):
«1. Ходатайствовать перед св. Синодом об издании послания к чадам православной церкви о том, чтобы православные не принимали никакого участия в чествовании графа Л. Н. Толстого, потому что он пребывает в отлучении от церкви.
2. В воскресение, предшествующее 28 августа, в городских церквах и фабричных центрах, где предполагается чествование Толстого, отслужить молебствие по чину в неделю православия о заблудших, предварив его чтением послания св. Синода.
3. Ходатайствовать перед св. Синодом о разрешении в противовес кощунственной на православную церковь литературе графа Л. Толстого, выпустить в народ православную литературу с христианским обличением Толстовских нареканий и похулений на церковь и веру православную и с увещанием православных чад не прикасаться к хульным на церковь писаниям Толстого, призывая к тому же и своих ближних...» [80].
Итак, почти накануне юбилея писателя синод выступил с призывом «всех верных сынов церкви воздержаться от участия в чествовании графа Льва Николаевича Толстого...»
Положение отцов церкви было поистине «хуже губернаторского». Церковь отлучила, по ее собственному признанию, человека, которому «многое дано», человека «выдающейся глубины мысли», «великого писателя», а за истекшие после этого семь лет популярность «отлученного» еще более возросла. Теперь же, когда его собирались чествовать, она призывала всех не делать этого. Но дело не обошлось одними призывами.
Вот какие, например, последствия вызвало постановление московской городской думы от 8 апреля 1908 года принять участие в чествовании Толстого.
7 июня к городскому голове Н. И. Гучкову поступило отношение митрополита московского Владимира с просьбой подтвердить, действительно ли состоялось такое постановление думы.
28 июля председатель Преображенско-Черкизовскога отдела Союза русского народа священник Василий Руднев подал заявление городскому голове Н. Гучкову «с просьбою не допустить такого оскорбления св. церкви и царя, когда 28 августа хотят чествовать открытого врага и хулителя церкви и самодержавной власти, хулителя, которого нужно не чествовать, а изъять из обращения, как язву, заражающую весь организм России».
19 августа последовало отношение Московского градоначальника генерал-майора Адрианова городскому голове о необходимости «устранить из обсуждения в собраниях Московской городской думы и управы какие бы то ни было вопросы по поводу чествования дня 80-летия графа Л. Н. Толстого».
«По указу Его императорского величества правительствующий Сенат слушал дело по жалобе московскою городского головы на распоряжение московского генерал-губернатора по поводу предполагавшегося чествования 80-летия дня рождения графа Л. Н. Толстого... правительствующий Сенат находит жалобу московского городского головы незаслуживающей уважения, а потому определяет оставить таковую без последствий».
Запрещение было наложено на постановление московской городской думы о помещении портретов Л. Н. Толстого в городских начальных училищах.
То же самое происходило повсеместно.
После появления статьи Толстого «Не могу молчать!» со страстным призывом прекратить смертные казни (июль 1908 г.) в его адрес посыпались новые обвинения и угрозы расправы. Правительственная газета «Россия» 30 июля 1908 года в статье «Точка над i» заявила, что Толстого «по всей справедливости следовало бы, конечно, заключить в русскую тюрьму». И это не было пустой фразой, ибо такое намерение обсуждалось в правительственных сферах. В совете министров, в частности, дебатировалось предложение министра юстиции Щегловитова о привлечении Толстого к суровой судебной ответственности за статью «Не могу молчать!». Хотя правительство и не отважилось на репрессивные меры, однако кампания, развернутая реакцией, все же дала свои результаты: «Тебя давно ждет виселица», «Смерть на носу», «Покайся, грешник», «Еретиков нужно убивать» — писали Толстому озверевшие «защитники престола». Некая О. А. Маркова из Москвы прислала писателю посылку с веревкой и письмом, подписанным «Русская мать»: «Не утруждая правительство, можете сделать сами, нетрудно. Этим доставите благо нашей родине и нашей молодежи». Толстой ответил ей спокойным и даже теплым письмом, которое, однако, не дошло по назначению, так как обратный адрес, указанный на посылке, оказался вымышленным.
Это, разумеется, не означает, что писатель не придавал никакого значения угрозам.
10 августа 1908 года А. Б. Гольденвейзер [81] записал в своем дневнике слова Толстого: «...возможно, что черносотенцы меня убьют» [82].
Статья «Не могу молчать!» вызвала восторженные отклики передовых людей русского общества. Вот выдержки из некоторых писем Толстому:
«Да живите и бодрствуйте на благо человечества! Не проглотит и не удавит Вас ни тюрьма наша русская, ни виселица; насколько Вы велики, настолько они ничтожны для этого. Недосягаемо для них выросли Вы».
«Ваши слова раздались как удары колокола в духоте позорного молчания. Люди дремали, и никто их не будил...»
«В дни постыдного безмолвия общества, среди полного эгоизма и циничного надругательства власти над всем, что дорого и свято для человечества, наконец-то раздался голос одного человека, который громко запротестовал против совершающихся изуверств».
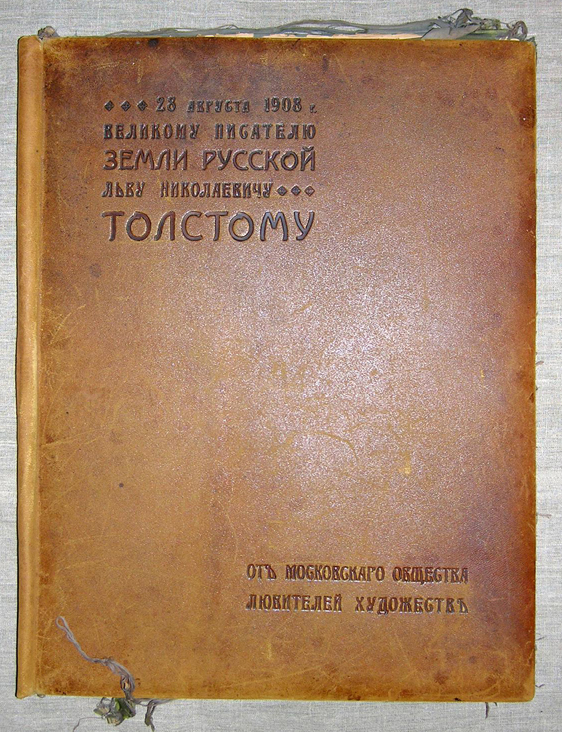   |
Все это поддерживало Толстого, радовало его.
* * *
Чествование Льва Николаевича Толстого в дни юбилея, принявшее огромный размах в России и за рубежом, внесло беспокойство в реакционные круги: отлученный от церкви, преследуемый черносотенной и церковной печатью человек был признан во всем мире как великий писатель, как великий авторитет.
Церковники оказались в глупом положении, так как все попытки уговорить писателя пойти хотя бы на компромисс успеха не имели.
И вот предпринимается еще одна.
В Ясную Поляну пожаловал сам Тульский архиерей Парфений. Гостя сопровождали исправник, становой, два урядника и два священника. В беседе с ним, упомянув о том, что он получает много писем от духовных лиц о призывом вернуться в лоно церкви, Толстой прибавил, что это так же невозможно для него, как взлететь на воздух. Изложив далее свое отношение к вере, Толстой стал расспрашивать архиерея о некоторых подробностях монастырской жизни, которые были нужны ему для начатого, но не оконченного еще рассказа «Иеромонах Илиодор».
Толстой, видимо, поначалу считал, что Парфений приезжал к нему без всякой задней мысли. Но после его отъезда Софья Андреевна рассказала, что архиерей просил уведомить его, когда Лев Николаевич будет близок к смерти. После этого, 22 января 1909 года, Лев Николаевич записал в своем дневнике:
«Вчера был архиерей, я говорил с ним по душе, но слишком осторожно, не высказал всего греха его дела. А надо было. Испортило же мне его — рассказ Сони об его разговоре с ней. Он, очевидно, желал бы обратить меня, если не обратить, то уничтожить, уменьшить мое, по их мнению, зловредное влияние на веру в церковь. Особенно неприятно, что он просил дать ему знать, когда я буду умирать. Как бы не придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я “покаялся” перед смертью. И потому заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться к церкви, причаститься перед смертью я так же не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки, и потому все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении, — ложь. Говорю это потому, что если есть люди, для которых по их религиозному пониманию причащение есть некоторый религиозный акт, т. е. проявление стремления к Богу, для меня всякое такое внешнее действие, как причастие, было бы отречением от души, от добра, от учения Христа, от Бога.
Повторяю при этом случае и то, что похоронить меня прошу также без так называемого богослужения...» [83]
Умер Лев Толстой. Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции.
В. И. Ленин
Десять лет, прошедших после отлучения от церкви, больной престарелый писатель противостоял натиску темных сил.
Подошла осень 1910 года...
«На исходе одной ненастной ночи писатель Лев Толстой ушел в неизвестность из своей яснополянской усадьбы. Кроме немногих доверенных лиц, никто в России не знал ни адреса, ни истинной причины, заставившей его покинуть насиженное гнездо.
Четырехдневное скитанье, порой под проливным дождем, приводит великого старца на безвестный полустанок. Болезнь, чужая койка, огласка... и вот приезжие деятели, духовенство, мужики, синематографисты, жандармы толпятся поодаль бревенчатого строения. Там, за стеной, один на один со смертью Лев Толстой. Все торопятся делать, что им положено в беде. Старец Варсонофий рвется вовнутрь благословить отлученного от церкви мыслителя до его отхода в дальний невозвратный путь; из Москвы поездом № 3 Рязано-Уральской железной дороги срочным грузом высылаются в Астапово для больного писателя шесть пудов лекарств. Смятение отринутых им церкви и цивилизации. Затем роковая ночь, черная мгла в окнах. Морфий, камфара, кислород. Последний глоток воды... Без четверти шесть Гольденвейзер прошепчет в форточку печальную весть, которая к рассвету обежит мир. Закатилось...» [84]
Через 27 лет известный русский писатель И. А. Бунин, всю жизнь благоговевший перед Толстым, проникновенно записал:
«И вот в 6 часов 5 минут утра 7 ноября 1910 года кончилась на станции Астапово не только жизнь одного из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на свете, — кончился еще и некий необыкновенный человеческий подвиг, необыкновенная по своей силе, долготе и трудности борьба...» [85]
* * *
Правительство и церковь были заинтересованы в том, чтобы истолковать причину ухода Толстого как желание примириться с государством и церковью и отказаться от своих «заблуждений». Для этого была использована печать; газеты того времени одна за другой помещали всевозможные версии на тему его ухода из дома: «...ни государство, ни церковь ничем не возмутили тишины гениальной жизни»; Толстой бежал «от духа революционного ажиотажа», от «антигосударственной и антицерковной интеллигенции»; «по всему видно, что граф Л. Н. Толстой находится на пути примирения с церковью». («Новое время», 4 ноября; «Колокол», 5 ноября 1910 г.)
Появились обращения к самому писателю. Так, газета «Русское знамя» 6 ноября опубликовала статью «О грехе», в которой призывала Толстого всенародно раскаяться в совершенных ошибках и «великом грехе» перед церковью. В ход был пущен вымысел о том, будто Толстой решил уйти от мирской суеты в монастырь.
«Лев Толстой не ушел от мира, а ушел в мир, — ответил на эти выдумки реакционной прессы писатель Скиталец. — Лев Толстой ушел в мир, потому что он принадлежит миру. Его дом — не Ясная Поляна и его семья — все люди... И он пошел ко всем людям — сильный и светлый... Не стойте же на его пути с маленьким узеньким мещанским аршином... Дайте дорогу светлому страннику. Пусть идет он, куда хочет... и да будет ему широка Россия!..» [86]
Когда же надежды на «раскаяние» не оправдались, реакционные газеты сменили слащавость на разнузданную брань, называя умирающего писателя «еретиком», «растлителем двух поколений», «слабоумным».
В то время как заболевший Толстой вынужден был прервать свою поездку и остановиться на станции Астапово, правительство, давно ожидавшее его смерти, приняло срочные меры, дабы не допустить проявлений всенародной любви к писателю и успешнее провести задуманную инсценировку «раскаяния».
На всем пути следования писателя и в Астапове была организована система полицейского наблюдения. Тайно от Толстого в одном поезде с ним ехал помощник начальника Тульского сыскного отделения Жемчужников. Весь маршрут Толстого находился под наблюдением жандармов. Через час восемь минут после того, как Толстой высадился в Астапове, станционный жандарм уже телеграфировал своему начальнику: «Елец, Урал, ротмистру Савицкому. Писатель граф Толстой проездом п. 12 заболел. Начальник станции г. Озолин принял его в свою квартиру. Унтер-офицер Филиппов».
Вскоре Астапово было наводнено полицейскими, жандармами и начальством: здесь собрались начальник Елецкого жандармского отделения Савицкий, начальник Рязанского губернского жандармского управления генерал-майор Глоба и вице-директор департамента полиции Харламов. О состоянии здоровья Толстого и положении дел на станции одна за другой направлялись шифрованные телеграммы министерству внутренних дел и московскому жандармскому управлению железных дорог.
В. Жданов в статье «Астапово 25 лет спустя» («Правда», 1935, 19 ноября) приводит цитаты из шифрованных телеграмм «взбудораженных представителей власти»:
«Начальник Камышинского жандармского управления жандармскому ротмистру: “Телеграфируйте, кем разрешено Льву Толстому пребывание Астапове станционном здании, не предназначенном помещения больных. Губернатор признает необходимым принять меры отправления лечебное заведение или постоянное местожительство”. “Вам безотлучно находиться Астапове, командировать туда пять жандармов и посылать донесения штаб о положении больного”».
Тамбовский губернатор рязанскому губернатору: «Если нужна помощь поддержке порядка, то городовых, стражников могу выслать из Лебедяни, Козлова».
Жандармский унтер-офицер из Астапова жандармским унтер-офицерам в Данков: «5 утром прибыть Астапово с оружием и патронами».
Власти пытались вывезти Толстого в больницу или в Ясную Поляну, но безуспешно.
«Последние известия о болезни Л. Н. Толстого произвели сильный переполох как в высших кругах, так и среди членов Святейшего Синода, — сообщало “Русское слово” 5 ноября 1910 г. — Председатель Совета министров П. А. Столыпин обратился к обер-прокурору Святейшего Синода С. Н. Лукьянову с запросом, как полагает высшая церковная власть реагировать в случае роковой развязки...»
На экстренном тайном заседании синода, созванном по поводу болезни Л. Н. Толстого, по инициативе обер-прокурора Лукьянова был поставлен вопрос об отношении церкви на случай печального исхода болезни Льва Николаевича.
«Этот вопрос вызвал продолжительные и бурные прения. Иерархи указывали на то, что Л. Н. Толстой отлучен Синодом от церкви, и для того, чтобы церковь вновь приняла его в свое лоно, необходимо, чтобы он раскаялся перед ней. Между тем раскаяния все еще не видно; не имеется даже более или менее достаточных внешних мотивов, которые говорили бы в пользу раскаяния Толстого.
Ввиду такого неясного положения вопроса, Синод не вынес никакого определенного решения и постановил послать телеграмму калужскому епархиальному начальству с предписанием попытаться увещевать Льва Николаевича Толстого раскаяться перед православной церковью.
Телеграмма уже отправлена официально от имени Святейшего Синода за подписью митрополита Антония...
Как нам сообщают, в высших кругах вопросу о болезни Л. Н. Толстого придают весьма важное значение. В случае печального исхода болезни Л. Н. Толстого в высших кругах опасаются того неловкого положения, в котором может очутиться церковь, ввиду отлучения Толстого и невозможности его похоронить по христианскому обряду.
По слухам, Синоду было даже указано на то, что желательно так или иначе вопрос об отлучении Л. Н. Толстого от церкви разрешить в благоприятную сторону».
Намеченная и разработанная синодом и министерством внутренних дел версия «раскаяния» Толстого была предварена рядом материалов синода и отдельных представителей духовенства, подготовленных для печати.
3 ноября газеты опубликовали интервью с Парфением, епископом тульским, заявившим, что «Толстой, несомненно, ищет сближения с церковью», и с бывшим тульским викарием Митрофаном, который сказал, что уход Толстого он рассматривает как «акт обращения его, возвращения к церкви». Некоторые газеты опубликовали интервью с Парфением, подчеркивая, что он обладает «тайной».
В печати появилось сенсационное сообщение о «тайне епископа Парфения», в котором было приведено следующее его заявление корреспонденту: «Я лишен возможности сообщить вам содержание моей беседы с Толстым, и никому в православной Руси я этого сказать не могу. Я был в Ясной Поляне, долго беседовал со Львом Николаевичем, старец просил меня, чтобы я никому не говорил о нашей беседе. “Я говорю с вами, — сказал мне Толстой, — как всякий христианин говорит с пастырем церкви на исповеди”. Поэтому наша беседа должна сохраниться в тайне».
Это заявление Парфения не соответствовало действительности. Как уже говорилось, после свидания с ним Толстой сделал в дневнике запись (22 января 1909 г.), в которой категорически подтвердил неприемлемость для него предсмертного покаяния и желание быть погребенным «без так называемого богослужения».
Учитывая, что митрополит Антоний просил С. А. Толстую уговорить мужа возвратиться к церкви, а также помня о других подобных попытках, Толстой несколько раз подчеркивал в своих дневниках, что он никогда не раскается и что предупреждает против обмана, к которому могут прибегнуть власти после его смерти.
4 ноября митрополит Антоний телеграммой увещевает Толстого примириться с церковью и православным русским народом. Чтобы не причинять больному ненужного беспокойства, эту телеграмму ему не показали.
Наступившее 5 ноября ухудшение состояния больного вызвало прилив энергии у властей и духовенства, объединивших усилия в стремлении во что бы то ни стало представить Толстого раскаявшимся.
В тот же день в Астапово прибыл игумен скита «Оптина пустынь» Варсонофий в сопровождении иподьякона Пантелеймона. Неподалеку, на станции Лебедяни, остановился в ожидании событий епископ тамбовский Кирилл. Варсонофий попытался проникнуть к больному. Корреспондент «Саратовского вестника» телеграфировал в редакцию утром 6 ноября: «Монахи прибыли с дарами, совещались с дорожным священником, ночью тайно пробрались к дому. К Толстому не проникли».
«Варсонофий пытался уверить корреспондентов, — сообщает газета “Русское слово”, — что он с другим братом едет на богомолье и, узнав о тяжкой болезни графа Льва Николаевича, остановился в Астапове и желал бы повидаться с больным, тем более, что он слышал, будто граф, будучи в Оптиной пустыни, направлялся к нему в лес, но не дошел. “Ни в какие пререкания с графом вступать не буду, только хочу примириться”».
«Вопрос о совершении над Толстым в случае его смерти “так называемого богослужения”, — вспоминает Н. Гусев, — сильно занимал высшую церковную бюрократию в те дни, когда смертельно больной Толстой лежал в доме начальника станции в Астапове. В Синоде начались продолжительные заседания, посвященные обсуждению этого вопроса. Было решено, что, если Толстой обнаружит хотя бы малейшее желание причаститься или возвратиться к церкви, с него будет снято отлучение и будет разрешено похоронить его по церковному обряду. Миссия выполнить это поручение была возложена на того самого тульского архиерея Парфения, который почти за два года до этого был у Толстого в Ясной Поляне.
Парфений приехал в Астапово в самый день смерти Толстого 7 (20) ноября 1910 года. Узнав, что Толстой уже умер, он вызвал к себе в купе вагона находившегося в Астапове жандармского ротмистра, а затем младшего сына Толстого Андрея Львовича, которого он, вероятно, знал по Туле. На его вопрос, обнаружил ли Толстой какие-нибудь признаки желания возвратиться к церкви и быть похороненным по церковному обряду, и ротмистр, и сын Толстого ответили отрицательно. Парфений решил, что в таком случае ему нечего здесь делать, и, не выходя из вагона, уехал в Петербург для доклада Синоду» [87].
В связи с этим вице-директор департамента полиции Харламов сообщает товарищу министра внутренних дел Курлову: «Миссия преосвященного Парфения успеха не имела: никто из членов семьи не нашел возможным удостоверить, чтобы умерший выражал какое-либо желание примириться к церковью».
* * *
Попытка оскорбить память усопшего писателя, приписав ему отказ в страхе перед смертью от убеждений всей его жизни и примирение с церковью, провалилась, и тотчас же синод запретил православному духовенству совершать панихиды по Толстому.
Постановление синода: «Постановлено предписать всем епархиальным начальствам России принять все зависящие меры к тому, чтобы не допускать в церквах никаких панихид и церковнослужений по Л. Н. Толстом».
«Благочинные Петербурга получили сегодня предписание не дозволять служения панихид по Л. Н. Толстом. В случае заявления о желании отслужить панихиду по рабе Божием Льве, следует осведомиться о фамилии, и, в случае, если скажут — Толстой, панихиды не служить» или: «Синод постановил не разрешать совершения поминовения и панихид по графе Толстом», — телеграфирует митрополит Антоний в Калугу епископу Вениамину после смерти писателя.
Казалось, что смерть положит конец гонениям на писателя, однако приведенные указания синода, несомненно, преследовали цель — подогреть чувства озлобления, в свое время разбуженные отлучением, напомнить живым о греховности нераскаянно умершего.
Церковная газета «Колокол» на первой полосе номера, вышедшего 9 ноября, в очерке «Скорбь православной России и последние заботы церкви» пересказывает предысторию отлучения, подчеркивая «кротость и снисхождение христианской любви к мятежной душе писателя — ересеучителя», проявленные к нему церковью. В заключение вновь перепечатывается полный текст определения синода от 20—22 февраля 1901 г. — об отлучении Толстого от церкви.
Вскоре на первых страницах последующих номеров появилось редакционное объявление следующего содержания:
«Редакция “Колокола” выпускает 3-е дополненное издание книги В. М. Скворцова объемом 685 стр. — “По поводу отпадения от православной Церкви графа Л. Н. Толстого”».
Официальная пресса после смерти Толстого не оставляла попытки оболгать его. Например, основная мысль статьи «Правительственного вестника» «Граф Лев Николаевич Толстой», опубликованной 9 ноября, сводилась к тому, что он якобы перед смертью примирился с казенной церковью. В «Заметках» А. Столыпина («Новое время», 9 ноября) наряду с лицемерным сожалением о «дорогом покойнике» открыто защищался синод, отлучивший Толстого от церкви. На страницах траурного номера «Нового времени» 9 ноября реакционный журналист М. Меньшиков в статье «Памяти Толстого» ставил писателя в один ряд с известным мракобесом и черносотенцем Иоанном Кронштадтским: «оба по существу были одной праведности, одного великого богоискания» [88].
«Посмотрите на оценку Толстого в правительственных газетах, — писал В. И. Ленин 16 ноября 1910 года. — Они льют крокодиловы слезы, уверяя в своем уважении к “великому писателю” и в то же время защищая “святейший” синод. А святейшие отцы только что проделали особенно гнусную мерзость, подсылая попов к умирающему, чтобы надуть народ и сказать, что Толстой “раскаялся”» [89].
* * *
В связи со смертью Толстого В. И. Ленин написал несколько статей. Они были опубликованы в большевистской печати за границей и в России [90]. В этих статьях, всесторонне раскрывавших всю сложность мировоззрения Толстого и связь его творчества с коренными вопросами русской революции, было показано, с какой огромной критической силой писатель обличал общественные порядки царской России. Эта критика, — указывал Ленин, — отличалась страстностью, силой чувства, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в своем стремлении найти настоящие причины бедствий народных масс.
В статье, написанной 28 ноября 1910 года, «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» Ленин писал:
«Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы. Острая ломка всех “старых устоев” деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России, — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь» [91].
* * *
Смерть Толстого отозвалась глубокой скорбью не только в сердцах русских людей, но и во всем мире. Студенческие и рабочие демонстрации и забастовки, явившиеся откликом на кончину великого писателя, выразили чувства протеста передовых слоев общества против царского правительства, страстным обличителем которого был Толстой.
Множество людей хотело принять участие в похоронах Толстого — первых гражданских публичных похоронах в истории России, похоронах без церковных обрядов, без отпевания. Но правительство чинило всяческие препятствия этому, и тысячи желающих не могли осуществить своего намерения. Ясная Поляна была буквально засыпана соболезнующими телеграммами от отдельных лиц и групп, отправка которых принесла многим авторам их немалые неприятности.
Правительство пресекало малейшие попытки организованно почтить память Толстого, арестовывая и высылая «в места не столь отдаленные» тех, кто публично выражал скорбь по поводу кончины писателя. Но даже массовые репрессии не могли достичь своей цели.
  |
  |
Многое можно рассказать об откликах на смерть Толстого — такое обилие документов, писем, воспоминаний тех лет сохранилось до наших дней. Но мы остановимся на наиболее, на наш взгляд, интересных.
* * *
«В конце 1910 г. произошло и следующее весьма важное событие, — вспоминает С. Ю. Витте [92], — умер наш великий писатель граф Толстой. Событие это дало повод к различным инцидентам. Все газеты, конечно, не могли не быть переполнены статьями по поводу этого события. Правительство не знало, как отнестись к этому событию.
Его величество сделал резолюцию на донесении о смерти Толстого, что Толстой был великий художник, а затем, что бог ему судья.
Я со своей стороны все-таки думаю, что Толстого, кроме бога, будут постоянно судить русское общество и русский народ, что Толстой, кроме того, что был великим писателем — художником, был и великим человеком, что многие из его политических взглядов, может быть, неверны, и я лично нахожу, что некоторые из них представляют заблуждение, но что тем не менее Толстой не только в области художества, но и в области мышления оказал и будет оказывать на Россию, и не только на Россию, но и на умы всей Европы громадное влияние.
Влияние его происходит от того, что он в своих мыслях и суждениях умел отрешиться от многих мнений, которые внушены исключительно эгоистической природой человека. Наконец, величайшая заслуга графа Толстого — это то, что он искренне верил в бога и своим громадным талантом умел внедрить эту веру в сердца многих тысяч людей и таким образом боролся с атеизмом и русским нигилизмом, которые имели такое большое влияние на умы молодого русского поколения семидесятых годов прошлого столетия.
Что касается правительства, то и тут оно хорошо не знало, на какой ноге танцевать: с одной стороны, совсем игнорировать такое великое событие, как смерть Толстого, было невозможно; безусловно охулить этого великом человека было невозможно; с другой стороны, допустить выражение особой печали и печальных манифестации по поводу смерти Толстого было неудобно, а потому и в этом случае, выражая как бы соболезнование по поводу смерти, вместе с тем принимали исподтишка полицейские меры для того, чтобы все соболезнования выражались в обществе в возможно скромных размерах.
Замечательно то, что ни один, не только из русских, но также и из иностранных писателей, не имел и ныне не имеет такого мирового значения, как Толстой. Никто из писателей за границей не был столь популярен, как Толстой. Этот один факт сам по себе указывает на значение таланта этого человека» [93].
Воздавая должное памяти Толстого, Витте дал ему характеристику как писателю мирового значения. Вместе с тем, рассматривая деятельность Толстого с позиций апологии самодержавия и религии, Витте особенно оценил его умение внедрять в сердца людей веру в бога. То есть то, в чем именно великий писатель более всего заблуждался и за что его критиковал В. И. Ленин в своих статьях.
* * *
 |
«На 9 ноября был назначен концерт всемирно известного исполнителя произведений Шопена, Листа и Брамса — пианиста Готфрида Гальстона, — вспоминает Андрей Лесков (“Орловская правда”, 1940, 20 ноября) о несостоявшемся в Москве концерте. — По случаю смерти Толстого к назначенному часу народу собралось немного. У входа томился одинокий полицейский. Говорили о возможной отмене концерта. Но вот на эстраду вышел Гальстон, молча сел за рояль... и по залу поплыли торжественные, величественные звуки траурного марша Шопена. Все встали. С последним аккордом Гальстон встал и молча ушел. На другой день стало известно, что Гальстон был оштрафован на 100 рублей за публичную демонстрацию своего преклонения перед памятью умершего писателя».
* * *
В ноябре 1910 года была издана открытка с портретом Л. Н. Толстого и датой его смерти. На обратной стороне открытки была напечатана телеграмма, посланная студентами Петербургского университета в Ясную Поляну на имя В. Г. Черткова, в которой говорилось: «Студенты С.-Петербургского университета, глубоко потрясенные и опечаленные смертью великого писателя и мятежного духом мыслителя Л. Н. Толстого, сливают свое горе с горем России и всего мира... не побежденный в поединке со светским и церковым официальным миром, ушел он, оставив нам вечную память о своей борьбе с неправдой современного социального уклада».
Петербургский комитет по делам печати наложил арест на открытки, запретив их продажу, как призывающие к протесту и антиправительственным выступлениям («Комсомольская правда», 1960, 19 ноября).
* * *
Когда Россию облетела весть о смерти великого писателя, костромская газета «Северная заря» вышла с большим портретом Л. Н. Толстого на первой странице, обрамленной траурной рамкой. В этом же номере был напечатан призыв к проведению общественной гражданской панихиды. Ранним утром полиция ворвалась в типографию и уничтожила все экземпляры газет, за исключением некоторой части, которую успели вывезти и пустить в продажу. На издателя газеты был наложен значительный штраф — 500 руб., дежурный редактор в административном порядке был посажен на 3 месяца в тюрьму, а газета была закрыта («Таганрогская правда», 1960, 20 ноября).
* * *
«Благодаря связям с редакцией местной газеты, — рассказывает А. Синани, — мой отец, Синани [94] — владелец известного в Ялте книжного магазина, один из первых в Ялте узнал о кончине Толстого и тотчас же в витрине своего магазина сделал выставку, посвященную его памяти.
Большой портрет Льва Николаевича, украшенный хризантемами, поместили в центре окна, прикрепив надпись:
“Лев Николаевич Толстой — великий писатель земли Русской скончался 7 ноября 1910 года”, а вокруг портрета разложили его книги, начиная от “Войны и мира”, “Анны Карениной” и кончая маленькими дешевыми книжечками издательства “Посредник”, задрапировали лампочки крепом и зажгли электричество.
У окна тотчас же собралась толпа. Никто еще не знал о смерти Толстого. Все с волнением читали это сообщение. Тут же, около окна, возникали группки, велись горячие беседы.
Этого не могла допустить полиция. Отец отказался выполнить требование полиции — убрать выставку с витрины. Дали знать полицмейстеру. Он прикатил к магазину, потребовал прекратить демонстрацию и убрать портрет, угрожая высылкой из Ялты. Отец вынужден был завесить окно. Но в Ялте уже прошел слух, что полиция запретила выставку, начались разговоры, упреки в адрес полиции. Полицмейстер вновь появился в магазине, но уже с просьбой открыть выставку, “дабы прекратить ненужные толки”.
— Только без этих красных цветов, — сказал он.
— Хризантемы красными и не бывают. Они только кирпичного цвета, — ответил отец.
— Ну все равно. Без цветов и надписи! Книги и портреты — ваш товар.
— Ничего менять не буду. Отмечаю смерть Толстого завешенным окном, — сказал отец.
И портрет Толстого оставался на выставке завешенным дней десять.
Толстой и после смерти продолжал пугать полицию» («Курортная газета», 1960, 20 ноября).
* * *
Черносотенцы и реакционеры всех мастей и оттенков извергали потоки злобной ругани и клеветы, глумясь наш усопшим писателем, чиня всякие препятствия к увековечению его памяти.
Уже известный нам злобный пасквилянт Сопоцько, издатель благонадежно-верноподданнического журнальчика «Студент-христианин», в № 1 и 2 за 1910 год еще при жизни писателя поместил статью с рекомендациями, «как хоронить»... Толстого.
В том же году в нескольких номерах он публикует «сатиру», насыщенную циничным зубоскальством по адресу Толстого и его друзей.
В №1 и 2 за 1911 год Сопоцько выступил со статьей «Из личных воспоминаний о Льве Толстом», в которой выражал свое «радование» по поводу смерти писателя.
В годовщину смерти писателя в № 10 за 1911 год журнала «Врач-христианин», заменившего «Студента-христианина» (так как Сопоцько тогда был уже врачом), юродствующий издатель сообщил, что Толстой «низринут богом во ад, где и будет мучиться миллиарды столетий и вечные веки!» [95].
Подобных личностей, науськивающих на Толстого толпу либо за плату, либо за расположение начальства, было немало. Небезынтересно в связи с этим ознакомиться, как же воспринял известие о смерти писателя вдохновитель реакционно-черносотенной своры, почетный член «Союза русского народа», самодержец всея России Николай Второй?
«Царь списал приготовленную для него напыщенную резолюцию на докладе, призывая бога к милостивому суду над скончавшимся отлученным христианином [96]. В реакционной печати царские слова расцвечивались бенгальскими огнями открытой лести, но это не удовлетворяло Николая; его ум более всего подвижный в области религиозных исканий, тревожился сомнениями, правильно ли поступил Синод, запретив заупокойные службы и похороны по обряду? Казалось, было с кем посоветоваться на эту тему, но царь выписывает из Сибири и своего давнишнего приятеля; кого бы вы думали, однако? Григория Распутина, профессионального растлителя девушек и разоблаченного даже ультра-черносотенным архиереем Гермогеном негодяя. Вот подлинные слова Распутина в вагоне I класса сибирского экспресса, указанные его спутнику: “Не первый раз еду в Царское Село... Правда, придворные меня не любят... Ну да я как бы к дядьке наследника в гости хожу, а там меня проводят к царю, и я с ним и царицей за одним столом сижу, чай пьем, разговариваем. А теперь меня царь вызывает, чтобы насчет того поговорить, правильно ли попы поступили, что Толстого отказались хоронить. Царь считает, что поступили они глупо”. Характерно, что Распутин, едучи в Царское, уже знает мнение царя. Не переписывается ли он с ним?», резонно задает вопрос автор книги «Последний самодержец» [97].
Какова же была «консультация» последнего временщика последнего царя?
Об этом нам поведал бывший иеромонах Илиодор (С. Труфанов) в своих воспоминаниях о Распутине:
«В ноябре месяце этого года (1910. — Г. П.) я послал царю Николаю телеграммы по случаю смерти графа Л. Н. Толстого (“великого богохульника и растлителя всего человечества”). Григорий откликнулся. Он прислал мне такую телеграмму: “Немного строги телеграммы, заблудился (Толстой) в идее, виноваты епископы — мало ласкали...”
Позже Распутин добавил:
“Епископы люди жестокие, как дьяволы. Папа (царь. — Г. П.) говорит: — что если бы они ласкали Л. Н. Толстого, то он бы без покаяния не умер. А то они сухо к нему относились. За все время один Парфений и ездил к нему беседовать по душе. Гордецы они!”» [98]
«...Самый обыкновенный, стоящий ниже среднего уровня, грубо суеверный и непросвещенный человек» [99], каким был Николай II, не мог постичь закономерности событий, — не мог понять, что церковные похороны Толстого были бы надругательством над памятью великого писателя и мыслителя, отлучившего от себя православие.
* * *
Еще в дни тяжелой болезни писателя Столыпин тайно предложил московскому градоначальнику принять меры, чтобы не допустить демонстраций в Москве в случае смерти Л. Н. Толстого. Поэтому 7 ноября, в день смерти писателя, студенческие сходки в высших учебных заведениях Москвы подверглись нападению жандармов в полиции. На сходках произносились речи против царского правительства и выдвигалось требование о немедленной отмене смертной казни. Полиция и жандармы неистовствовали на улицах, жестоко расправляясь с демонстрантами, арестовывали их, отбирали портреты писателя, конфисковывали посвященные памяти Л. Н. Толстого газеты. В этом им помогали черносотенцы, октябристы и кадеты, принимавшие все меры, чтобы не допустить антиправительственных выступлений.
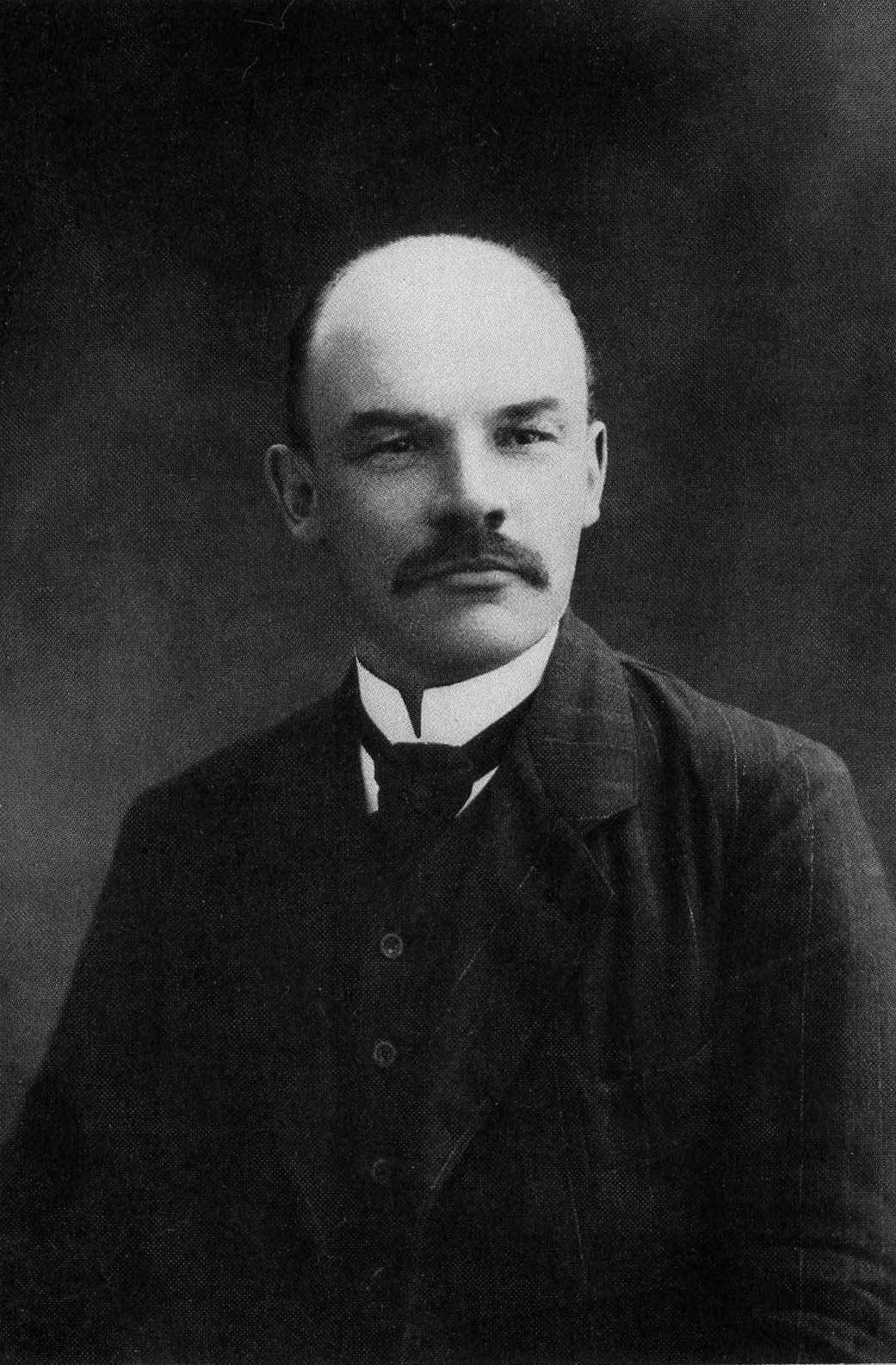 |
Касаясь отношений разных партий к демонстрациям, В. И. Ленин беспощадно бичевал «Голос Москвы», орган октябристов, и «Русские ведомости», орган кадетов, уличая их в попытках срыва демонстрации в связи со смертью Л. Н. Толстого.
«К счастью, — писал В. И. Ленин, — подлая подножка, подставленная демократии кадетами, не удалась. Демонстрация все же состоялась» [100].
Вопреки репрессиям царского правительства и провокациям буржуазных партий демонстрации по случаю смерти Толстого как в Москве, так и в других городах превратились в крупные революционные выступления против царизма.
«Рабочие Москвы живо откликнулись на смерть великого писателя. На ряде фабрик и заводов рабочие прекратили работу, организовали митинги и траурные собрания, на которых выразили свою скорбь по поводу большой утраты, понесенной всей Россией со смертью Толстого.
Демонстрации в связи со смертью Л. Н. Толстого В.И. Ленин оценил как важный признак начала нового революционного подъема в стране, инициатором которого явился пролетариат» [101].
«Пролетариат начал, — писал Ленин. — Другие, буржуазные, демократические классы и слои населения, продолжают. Смерть умерено-либерального, чуждого демократии, председателя I Думы, Муромцева, вызывает первое робкое начало манифестаций. Смерть Льва Толстого вызывает — впервые после долгого перерыва — уличные, демонстрации с участием преимущественно студенчества, но отчасти также и рабочих... Русский народ просыпается к новой борьбе, идет навстречу новой революции» [102].
«Русские рабочие, — отметил В. И. Ленин, — почти во всех больших городах России уже откликнулись по поводу смерти Л. Н. Толстого и выразили, так или иначе, свое отношение к писателю... В общем и целом это отношение выражено в напечатанной в газетах телеграмме [103], посланной рабочими депутатами III Думы» [104].
* * *
Лев Толстой один из тех гигантов, которые живут для всех времен и для всех народов.
Почти 70 лет отделяют нас от даты смерти писателя, но он был и остается нашим современником.
Несколько поколений советской молодежи со школьной скамьи познают творчество писателя, сопереживают с героями и героинями его произведений.
По данным Всесоюзной книжной палаты, на 1 января 1977 года тираж произведений Толстого, изданных только в СССР, превысил 200 млн. экземпляров.
Художественные произведения Толстого заняли прочное место на театральных сценах и экранах.
Произведения Толстого изучаются советскими и зарубежными филологами, философами и историками — авторами многочисленных трудов, посвященных жизни и творчеству великого писателя.
Оговоримся, что некоторые зарубежные «толстоведы» выступают против ленинской трактовки мировоззрения и творчества Толстого, по-своему толкуют труды писателя на религиозно-моральные темы, по-своему объясняет позицию церкви.
Рассказ о Толстом наших дней, защита его наследия от всякого рода чуждых нам толкователей — большой самостоятельный труд. Мы же закончим изложение истории отлучения Льва Толстого от церкви первыми годами становления Советской власти.
 |
* * *
Имя великого писателя заняло в Стране Советов подобающее ему место — классика русской литературы, в наследии которого «есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему» (Ленин).
В первые же годы после Октября Совнарком, заботясь о сохранности всего, что связано с жизнью и творчеством Л. Н. Толстого, постановил объявить московский дом Толстого в Хамовниках национальной собственностью и отпустить средства на поддержание усадьбы Ясная Поляна в том виде, в котором она находилась при жизни писателя.
С особенной теплотой относился Ленин к творчеству Толстого, гордился им, как великим писателем земли русской, находил отдых в перечитывании любимых отрывков из его произведений.
«Как-то пришел к нему (Ленину. — Г. П.), — вспоминает Максим Горький, — и — вижу: на столе лежит том “Войны и мира”.
— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот, вспомнил, что надо написать товарищу. А читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.
Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:
— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.
Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:
— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?
Сам себе ответил:
— Никого.
И, потирая руки, засмеялся, довольный» [105].
Примечания
[1] Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973. С. 851.
[2] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 23. С. 296.
[3] Толстая А. А. (1817—1904) — двоюродная тетка Л. Н. Толстого. Камер-фрейлина, жила в Зимнем дворце.
[4] Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. Т. 32. С. 297.
[5] Маркс А. Ф. (1838—1904) — русский издатель еженедельного иллюстрированного журнала для семейного чтения «Нива» (1870—1917), в приложениях к которому выпускались собрания сочинений русских и иностранных писателей-классиков, расходившиеся большими тиражами по всей России.
[6] Гудзий Н. Н. Лев Толстой. М., 1960. С. 151, 153.
[7] Луначарский А. В. Введение в историю религии. М., 1923. С. 190.
[8] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 245.
[9] Кони А. Ф. (1844—1927) — видный юрист, судебный и общественный деятель, писатель-мемуарист.
[10] Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. Л., 1965. С. 291-292.
[11] Новоселов М. А. (р. 1864) — преподаватель Московской гимназии, увлекся толстовством. В 90-х годах отошел к православию, выступал против Толстого.
[12] Былое. П., 1918. № 9. Кн. 3. С. 214—215.
[13] Зубатов С. В. (1864—1917) — жандармский полковник, в 90-х годах начальник московского охранного отделения, начальник особого отдела департамента полиции (1902—1903). Вошел в историю русской революции как основатель «полицейского социализма» («зубатовщины»).
[14] Грот Н. Я. (1852—1899) — философ-идеалист, профессор Московского университета.
[15] Толстая С. А. (урожд. Берс, 1844—1919) — жена Л. Н. Толстого.
[16] Рачинский С. А. (1833—1902) — ботаник, проф. Московского университета. Последователь Победоносцева в организации церковно-приходских школ и обществ трезвости. С Толстым сблизился на почве увлечения народными школами.
[17] См.: Семенов С. Т. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Спб., 1912. С. 34.
[18] Бонч-Бруевич В. М. (урожд. Величкина) (1870—1918) — врач, переводчица, с 1898 г. член РСДРП. Автор воспоминаний «В голодный год со Львом Толстым». М.—Л., 1928.
[19] Бонч-Бруевич В. Д. Избр. соч. Т. 1. М., 1959. С. 246— 247.
[20] Семенов С. Т. (1868—1922) — крестьянин Волоколамского уезда Московской губернии. Писатель-самоучка. Автор произведений о крестьянской жизни.
[21] Семенов С. Т. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. С. 34—35.
[22] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 70.
[23] Архив канцелярии обер-прокурора Св. синода. Ф. 797. Оп. 94. Д. 133. Л. 2.
[24] Ежедневная газета, выходившая в 1756—1917 гг., с 1863 г. руководимая М. Н. Катковым, стала органом крайней реакции, а с 1905 г. — одним из главных органов черносотенцев.
[25] Здесь, как и во всей переписке и документах синода, текст приводится без соблюдения старого правописания, но с сохранением прописных букв.
[26] В. К. Саблер в то время был помощником Победоносцева.
[27] Чертков В. Г. (1854—1936) — один из ближайших друзей Толстого, издатель его сочинений.
[28] Теперь улица Льва Толстого.
[29] В запись С. А. Толстой вкралась ошибка: следует читать «25 февраля».
[30] Дунаев А. Н. (1850—1920) — один из директоров Московского торгового банка. Друг семьи Толстых.
[31] Теперь площадь Дзержинского.
[32] Толстая С. А. Дневники (1897—1909). М., 1932. С. 144, 145, 148.
[33] 28 декабря 1912 года газета «Русское слово» опубликовала письмо С. А. Толстой с сообщением, что «с ее ведома на могиле было совершено отпевание Толстого православным священником, отпустившим ему грехи». При отпевании кроме С. Д. Толстой присутствовали Ю. И. Игумнова (переписчица и секретарь Толстого с 1901 года), В. Ф. Булгаков (секретарь Толстого в 1910 году) и одна девушка. Так С. А. Толстая демонстративно подчеркнула свое пренебрежение к постановлению синода.
[34] Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М.—Л., 1936. С. 613.
[35] Казембек М. Л. (урожд. Толстая) — с 1899 по 1904 г. начальница Казанского Родионовского института благородных девиц, затем — Петербургского Елизаветинского института.
[36] Дитерихс И. К. (1862—1932) — шурин В. Г. Черткова и К Л. Толстого. Бывший казачий офицер-подъесаул Кавказской армии, вскоре оставивший военную службу. В 1897 г. за связь с кавказскими сектантами-духоборами и помощь им был выслан за пределы Кавказского края. Автор «Воспоминаний о Л. Н. Толстом».
[37] Л. Н. Толстой. Памятники творчества и жизни. Под ред. В. И. Срезневского. Вып. 3. М., 1923. С. 108—110.
[38] В частности, по свидетельству Р. Заборовой (Русская литература. Л., 1964. № 2. С. 129), установлено, что автором басни «Голуби-победители» является известный в 1900-х годах поэт-сатирик Н. Н. Вентцель (1855—1920).
[39] Игнатьев Н. П. (1832—1908) — генерал-адъютант. Известный государственный деятель в царствование Александра II и Александра III.
[40] По распоряжению церковных властей у молокан отбирали детей. Толстой писал об этом царю дважды (1897 г.) и добился возврата детей родителям. О женах духоборов, просивших разрешение вернуться из Канады к их мужьям, сосланным в Якутскую область, Толстой также писал царю (1900 г.) и также добился положительного результата.
[41] Сипягин Д. С. (1853—1902) — с 1900 г. министр внутренних дел и шеф жандармов.
[42] В. Г. Короленко о литературе. М., 1957. С. 447.
[43] Гнедич П. П. (1885—1925) — писатель и драматург.
[44] Гнедич П. П. Книга жизни. (Воспоминания). М.—Л., 1929. С. 202—203.
[45] Как мы уже отмечали, оно было опубликовано в воскресенье 25 февраля.
[46] Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. Т. IV. М.—П., 1923. С. 22.
[47] Следует 20 подписей. В их числе В. Д. Бонч-Бруевича, В. М. Величкиной, П. И. Бирюкова и др.
[48] Гершензон М. О. (1869—1925) — историк русской литературы.
[49] Гершензон М. О. Письма к брату. М., 1927. С. 157.
[50] Чаша для приготовления причастия — «тела и крови господней» при евхаристии.
[51] Кольридж Сэмюэль Тейлор (1772—1834) — английский поэт, критик. Эту мысль Кольриджа Толстой взял также эпиграфом к «Ответу Синоду».
[52] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 245—253.
[53] Церковный вестник. 1901. № 27. С. 860.
[54] В связи с цензурными послаблениями, вырванными у царизма революцией 1905 г., в 1906—1907 гг. петербургское издательство «Обновление» — издатель Н. Е. Фельтен (1884—1940) — выпускало ранее запрещенные в России произведения Л. Толстого.
[55] Иоанн Кронштадтский (Сергиев И. И.) (1829—1908) — протоиерей, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, мракобес, черносотенец, погромщик.
[56] Аскетизм — религиозно-этическое воззрение, проповедующее подавление чувственных влечений и создание в человеке привычки к лишениям и физическим страданиям, как пути к «нравственному совершенствованию» и «приближению к божеству».
[57] Квиетизм (от лат. guies — покой) — религиозно этическое воззрение, проповедующее мистически-созерцательное отношение к жизни, «удаление» от мира, пассивность, «непротивление злу», подчинение «божественной воле», якобы определяющей все поступки человека.
[58] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 104.
[59] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 209—210.
[60] Вяземский Л. Д. (1848—1909) — князь, генерал-лейтенант, член Государственного совета, был арестован у Казанского собора за вмешательство в действия полиции, получил выговор от царя и вскоре был выслан из Петербурга.
[61] Ломунов К. Н. Предисловие к т. 34. // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 7-8.
[62] Суворин А. С. Дневник. М.—П., 1923. С. 263.
[63] Порядок богослужения. В данном случае — обряд в честь православных икон во время которого возглашалась анафема еретикам (иконоборцам), вечная память «почившим в вере» и многолетие православным живым.
[64] Неточность у Телешова: самозванец «на престол вскочил» после смерти Годунова.
[65] Телешов Н. Д. Избр. соч. Т. III. М., 1956. С. 278-279.
[66] Псевдоним писателя-демократа С. Г. Петрова (1869—1941).
[67] Скиталец С. Г. Повести и рассказы. Воспоминания. М., 1960. С. 433.
[68] В 1901 г. первое воскресенье великого поста приходилось на 18 февраля. Определение синода об отлучении Толстого было опубликовано 25 февраля.
[69] Прототипом Олимпия был взят протодиакон Гатчинского собора Амвросий, у которого Куприн видел том сочинений Л. Н. Толстого.
[70] Одна из комнат яснополянского дома была отведена для перепечатки рукописей на пишущей машинке «Ремингтон». Отсюда и название комнаты.
[71] Булгаков К. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М. 1960. С. 376.
[72] Дондукова-Корсакова М. М. (1828—1909) — княжна, дочь вице-президента Академии наук. Знакома с Л. Толстым с 1860 г.
[73] Имеется в виду анонимная статья «По поводу послания Святейшего Синода о графе Льве Толстом», напечатанная в № 9 и 11 «Полтавских епархиальных ведомостей» за 1901 г. 21 апреля того же года она была перепечатана в Прибавлениях к № 16 «Церковных ведомостей». В статье дается подробное перечисление и обсуждение с привлечением евангельских текстов всех несогласий Толстого с православной церковью. Автор, скрывшийся под инициалами «В. Т.», в заключение утверждает, что обращение Толстого к церкви очень трудно и почти невозможно, но все же не теряет надежды, что, «быть может, и наступит час, когда и Льва... облистает свет Христа Воскресшего и... повергнется он в прах со всею своею гордою мудростью языческою, и после полного жестокого крушения духа смиренно приклонит колена перед Распятым».
[74] Л. Н. Толстой. Летописи Гослитмузея. М., 1938. Кн. 2. С. 268—269.
[75] Сулержицкий Л. А. (1872—1916) — художник, литератор. Режиссер Московского художественного театра.
[76] Горький М. Собр. соч. Т. 18. М., 1963. С. 102.
[77] Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. Т. IV. С. 103-104.
[78] Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973. С. 61.
[79] См.: В. Г. Короленко о литературе. М., 1957. С. 146.
[80] Вопросы истории, религии и атеизма. Сборник. Вып. VIII. М., 1960. С. 366.
[81] Гольденвейзер А. Б. (1875—1961) — пианист, профессор Московской консерватории. Друг Толстого.
[82] Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 237.
[83] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 57. С. 16—17.
[84] Леонов Леонид. Слово о Толстом. // Правда. 1960. 20 ноября.
[85] Бунин И. А. Собр. соч. Т. 9. М., 1967. С. 33.
[86] Раннее утро. 1910. 4 ноября.
[87] Гусев Н. Н. Толстой и церковники. // Антирелигизник. 1940. № 10—11. С. 22.
[88] Л. Н. Толстой в русской критике. Сборник статей. М., 1949. С. 483—484.
[89] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 22.
[90] «Л. Н. Толстой», «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение», «Толстой и пролетарская борьба», «Л. Н. Толстой и его эпоха».
[91] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 39—40.
[92] Витте С. Ю. (1849—1915) государственный деятель конца XIX — начала XX века.
[93] Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 3. С. 537-538.
[94] Синани И. А. (ум. 1917) — ялтинский книготорговец. Его магазин пользовался широкой известностью, особенно среди писателей, литераторов, актеров и художников.
[95] Л. Н. Толстой. Летописи Гослитмузея. Под ред. В. Д. Бонч-Бруевича и Н. Н. Гусева. М., 1938. С. 128—133.
[96] «Душевно сожалею о кончине великого писателя, воплотившего во времена расцвета своего дарования в творениях своих родные образы одной из славнейших годин русской жизни. Господь бог да будет милостивым судьей. Николай II».
[97] Обнинский В. П. Последний самодержец. Берлин, 1912. С. 492—493.
[98] Труфанов С. Святой черт // Голос минувшего. М., 1917. № 3. С. 56, 62.
[99] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 168.
[100] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 2.
[101] Шарова П. Н. История Москвы. М., 1955. Т.4. С. 244-245.
[102] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 74—75.
[103] Имеется в виду следующая телеграмма, посланная в Астапово на имя В. Г. Черткова социал-демократическими депутатами III Государственной думы: «Социал-демократическая фракция Государственной думы, выражая чувства российского и всего международного пролетариата, глубоко скорбит об утрате гениального художника, непримиримого, непобежденного борца с официальной церковностью, врага произвола и порабощения, громко возвысившего свой голос против смертной казни, друга гонимых».
[104] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 38.
[105] Горький М. Собр. соч. Т. 18. М., 1963. С. 280.
Опубликовано отдельным изданием: Петров Г. И. Отлучение Льва Толстого от церкви. М.: Знание, 1978.
Георгий Иванович Петров — советский писатель.