
| Saint-Juste > Рубрикатор | Поддержать проект |
Аннотация
— Саблина Нина Михайловна?
— Да.
— Немедленно выйдите в другую комнату, освободите помещение. С собой ничего не брать! Руками здесь ничего не трогать!
Обыск на рабочем месте жены замполита «Сторожевого» ровным счетом ничего не дал. Недовольные, быстро вывели Нину Михайловну, усадили в пыльно-грязный «газик», шустро взявший с места. Мишу, кстати, в тот же день вырвали со школьных уроков. Неэстетичный «газик» рыгнул тормозами на улице Ушакова.
Скоротечно изыскали двух понятых, одного, впрочем, военного, и засучили рукава на более чем трехчасовой грабеж квартиры.
Документ, как всегда, холодно беспристрастен:
«Протокол
обыска
Калининградская
область
Город Балтийск, 10 ноября 1975 года
Должность, воинское звание, фамилия лица, производящего обыск:
Старший следователь следотделения Управления КГБ при СМ СССР по Калининградской области майор Калинин и старший следователь того же следотделения ст. лейтенант Сафонов с участием (пропущено)
В присутствии жены Саблина Валерия Михайловича — Саблиной Нины Михайловны, понятых:
1. Скорева Дмитрия Дмитриевича, проживающего по адресу: Калининградская область, гор, Балтийск, в/ч 87168, и
2. Серегина Олега Александровича, проживающего по адресу: Калининградская область, гор. Балтийск, ул. Егорова, дом 4, кв. 15,
на основании постановления о производстве обыска от 10 ноября 1975 года, руководствуясь требованиями статей 169—171, 176 и 177 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, произвел обыск в квартире Саблина Валерия Михайловича по адресу: Калининградская, область, гор. Балтийск, ул. Ушакова, дом 26, кв. 57.
Обыск начат в 15 часов 10 минут.
Предусмотренное статьей 169 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления, подлежащие занесению в протокол, присутствующим при обыске лицам разъяснено. С содержанием ст. 169 УПК РСФСР они ознакомлены.
(Подписи присутствующих)
Предусмотренная статьей 135 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР обязанность понятых удостоверить факт, содержание и результаты обыска разъяснена.
(Подписи понятых)
Перед началом обыска в соответствии с требованиями статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР Саблиной Нине Михайловне предъявлено постановление о производстве обыска от 10 ноября 1975 года и предложено выдать личные документы, переписку, записи, кино- и фотонегативы, принадлежащие Саблину Валерию Михайловичу, и другие предметы и документы, имеющие значение для дела.
Ввиду заявления Саблиной Н.М. о том, что перечисленные предметы и документы находятся в секции гостиной, в квартире: 2 комнатах, кухне, туалете, ванной был произведен обыск помещения, занимаемого Саблиным В.М. и его семьей.
(Подписи Саблиной Н. М. и понятых)
В результате обыска обнаружены и изъяты:
1. Диплом Я № 708200 на имя Саблина Валерия Михайловича об окончании Военно-политической академии имени В.И. Ленина.
2. Выписка из зачетной ведомости к диплому Я № 708200.
3. Диплом Н № 513732 на имя Саблина Валерия Михайловича об окончании высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе.
4. Академическая справка № 3839 на имя Саблина Валерия Михайловича.
5. Диплом на имя Саблина Валерия Михайловича об окончании Вечернего университета марксизма-ленинизма при ЦДСА им. М.В. Фрунзе.
6. Свидетельство о рождении Р № 4211565 Саблина Валерия Михайловича.
7. Аттестат зрелости Б № 620890 на имя Саблина Валерия Михайловича.
8. Удостоверение на имя Саблина Валерия Михайловича о сдаче кандидатского экзамена по английскому языку — два экземпляра.
9. Протокол заседания экзаменационной комиссии от 30 мая 1972 года о приеме кандидатского экзамена по диалектическому и историческому материализму от Саблина Валерия Михайловича.
10. Комсомольский билет № 06177040 на имя Саблина Валерия Михайловича.
11. Удостоверения к медалям:
«50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР III и II степеней»,
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«За воинскую доблесть, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», выданные на имя Саблина Валерия Михайловича.
12. Читательский билет Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина на имя Саблина Валерия Михайловича.
13. Почетные грамоты в количестве девяти штук на имя Саблина В.М.
14. Записная алфавитная адресная книжка в коричневой обложке из белой бумаги в линейку на 60 листах с записями различных адресов.
15. Ученическая тетрадь в клетку на 12 листах в голубой обложке, на обложке имеется надпись «Василий Федоров», в тетради записаны стихи, которые начинаются со слов «Отдам народу сердце, руки...» и заканчиваются словами: «...За все ошибки на крутом пути».
16. Общая тетрадь в светло-сером коленкоровом переплете, обернутая серой лакотканью. Тетрадь имеет 67 листов белой бумаги в клетку. Записи в тетради начинаются со слов «Быть человеком — значит не только обладать знаниями...» и заканчиваются словами: «...И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение». В тетради имеются четыре вклейки, из которых три — вырезки из газет и одна — рукописная на листе белой нелинованной бумаги.
17. 11 вырезок из газет, из которых 8 — со стихами Евтушенко, 1 — со стихами Юсупова, Евтушенко и Цыбина, 1 — со статьей В. Гагариной — «108 минут и вся жизнь» и 1 — со статьей «Сорокалетье — строгая пора».
18. Книги: Э.М. Казакевич «Синяя тетрадь», С. Сартаков «Первая встреча», Карл Маркс «О государстве и праве», В.И. Ленин «Шаг вперед, два шага назад», «Государство и право древнего Рима», А. Коптелов «Возгорится пламя». В перечисленных книгах имеются пометки, подчеркивания и надписи различного характера.
19. Два листа белой нелинованной бумаги с записью стихов Е. Евтушенко. Размер листов 290 мм х 205 мм.
20. Лист белой бумаги в клетку размером 168 мм х 202 мм с записями красным и синим красителем, начинающимися со слов: «В.С. Готт. Философские вопросы современной физики...» и заканчивающимися словами: «...стрельба 2-х к-лей. ПЛ».
21. Лист белой нелинованной бумаги размером 105 мм х 137 мм с записями синим красителем, начинающимися ело слов: «Революционеру ради достижения его целей...» и заканчивающимися словами: «...чисто личные задачи. Чернышевский».
22. Лист белой нелинованной бумаги размером 105 мм х 145 мм с записями синим красителем, начинающимися со слов: «Земная ось повреждена» и заканчивающимися словами: «...Эжен Потье».
23. Кортик в металлических ножнах. Длина кортика 370 мм, длина клинка 250 мм, ширина клинка у основания 18 мм. На клинке имеется надпись на немецком «Siegfried Solingen Waffen; Ernst Pack Sonne М. В. H. Waffen-fabrik». Рукоятка кортика изготовлена из пластмассы желтого цвета.
24. Фотопленки в количестве 59 штук, из которых 51 — в заводской упаковке, одна — завернута в фольгу, 6 — проявленные негативы без упаковки, одна — в кассете.
25. Лента для магнитофона в 23 кассетах, из которых 14 — диаметром 175 мм, три (зачеркнутую цифру «4» — не читать, надписанному слову «три» — верить». Л. Сафонов и три подписи присутствующих) — диаметра, 150 мм, 5 — диаметром 125 мм и одна — диаметром 105 мм.
Все перечисленные в протоколе предметы и документы упакованы в один мешок, который прошит и опечатан печатью № 1 для пакетов УКГБ при СМ СССР по Калининградской области.
Обыск окончен в (не указано) часов (не указано) минут.
Протокол обыска следователем вслух прочитан. Записано правильно. Замечаний по поводу обыска и содержания протокола не поступило.
Лицо, у которого производился обыск
Присутствующие: Подпись (Саблина)
Понятые: Подпись (Скорее)
Подпись (Серегин)
Обыск произвел и протокол составил
Ст. следователь УКГБ по Калининградской области майор
Подпись (И. Калинин)
Ст. следователь УКГБ по Калининградской области ст. л-нт
Подпись (Л. Сафонов)»
В протоколе обыска встречаются ошибки. Полпредов КГБ волновали, в первую очередь, не книги, а возможные пометки Валерия Саблина на них. Выметено было все, но обыск затягивался, время его окончания в протоколе намеренно «пропустили». А оно красноречиво свидетельствует о «широком фронте прочесывания» в маленькой квартирке.
И все-таки главное «не шло» в руки профессионалов. Они продолжали искать.
Что?
 |
— В день ареста отца, 16 апреля 1939 года — вспоминает Б.М. Кедров, сын Михаила Сергеевича Федорова, участника трех революций, старого партийца и видного чекиста, — я был у него дома и он мне показал... текст письма Сталину, а затем спрятал его в стол. Позднее жена отца — Р.А. Пластинина мне говорила, что в момент ареста агенты НКВД бросились сразу обшаривать столы, спрашивая, где письмо к Сталину. Найдя его, они приступили к систематическому обыску…
КГБ еще вернется в саблинский дом, который семья будет вынуждена покинуть. Все поглотил мешок с печатью № 1. Даже трофейный немецкий кортик, подарок отца Саблина сыну, семейную реликвию двух поколений военных моряков. Все. Кроме самого главного. Ради чего приезжали офицеры КГБ в Горьком.
В жизни каждого человека есть свой решительный момент. Письмо, если оно пишется в такой момент, аккумулирует в себе жизнь. Идеалы, цели, помыслы, мысли, душу, плоть и кровь вбирают в себя строки. Их не так много. Но разве письмо может быть бесконечно длинным? Детали, второстепенное, будничное, заматывающее текучкой, здесь отметается прочь, отступает в сторону. Виден стержень человеческий. То, ради чего он живет. Чем дышит. Что надеется и хочет осуществить. Человек сдает экзамен на право быть Человеком.
Следователи недаром охотятся за этими письмами. Расчлененные на тезисы (а поспешное следствие никогда не любит утруждать себя психологией, да и моралью), перевернутые с ног на голову, они становятся рабочими инструментами приближения приговора. Если же подтасовать, подогнать и натянуть ничего нельзя (а с правдой всегда так!), то тем опаснее. Следовательно, эти страницы надо наивозможно быстрее изъять из жизни, спрятать в несгораемом шкафу, затолкать в папку с грифами «ДСП» и «Совершенно секретно», а то и уничтожить, стереть в порошок, пыль, ничто. И развеять. Что, спрашивается? Кто, говорите? Потомки? Какие еще потомки, да вот же — не было ничего! Да-да-да! Ни-че-го. И спрашивать нечего. Некого. И главное, не с кого. Старатели уже старательно устроились и пить из другой посуды не хотят. Сделано старательское дело (в памяти, в мозгах, в сердцах), сварганено — шабаш! Строки — документы, уничтоженные физически, не смогут напрямую обратиться к современникам и потомкам. А уж на пустом, точнее и честнее говоря, на затоптанно-выбито-выжженном месте можно городить высокую по чудовищным масштабам ложь. Есть у нас, на беду страны, поднаторевшие в этом практики. Ну а того, кто рискнет...
Нашелся такой человек. Рискнул. Рисковал. А главнее, что сделал. Родной. Близкий. Жена. Саблина Нина Михайловна.
Успела в самый последний момент спрятать эти сколько листочков, завещанных ей мужем. Спасла во время глазасто-дотошного обыска.
Это письма. Ей. И Мише.
Письма жене и сыну.
Письма бессмертия всем нам.
Вам и мне.
«Дорогая моя Ниночка!
Мне даже трудно представить, как ты встретишь сообщение о том, что я встал на путь революционной борьбы. Возможно, ты проклянешь меня, как человека, который испортил тебе всю жизнь; возможно, ты назовешь меня черствым человеком, не думающим о семье. Возможно, глубоко обидишься за то, что я скрывал от тебя свои планы. А возможно, просто печально скажешь — “чудаком он был, чудаком и остался!” Это будет лучшее, что я могу ожидать.
Не суди слишком строго меня и постарайся объяснить Мише, что я не злодей, не авантюрист, не анархист, а просто человек, любящий свою Родину, свободу и не видящий иного пути к счастью своего народа, как борьба.
Я очень любил и люблю тебя и, конечно, нашего сына Мишу. Эта любовь помогала мне быть честным в жизни и стать революционером.
 |
Я не сразу стал революционером. Я долго был либералом, уверенным, что что-то надо чуть-чуть подправить в нашем обществе, что надо написать одну две обличительные статьи, что надо сменить одного-двух руководителей — и восторжествуют справедливость и честность в нашем обществе.
Это было примерно до 1971 года. Учеба в академии окончательно убедила меня в том, что стальная государственно-партийная машина настолько стальная, что любые удары в лоб будут превращаться в пустой звук, а шишки будут смертельны.
Надо сломать эту машину изнутри, используя ее же броню. С 1972 года я стал мечтать о свободной пропагандистской территории корабля.
К сожалению, обстановка складывалась так, что только в ноябре 1975 года возникла реальная возможность выступления.
Идя на этот решительный шаг, я, конечно, понимаю, что не все меня поймут и поддержат.
Но мне очень, очень хочется, чтобы вы с Мишей поняли меня.
Что меня толкает на это? Любовь к жизни. Причем я имею ввиду не жизнь сытого мещанина, а жизнь светлую, истинную, которая вызывает искреннюю радость у всех честных людей.
Я убежден, что в народе нашем, как 58 лет тому назад, вспыхнет революционное сознание, и он добьется коммунистических отношений в нашем обществе.
А сейчас наше общество погрязло в политическом болоте, все больше и больше будет ощущать экономические трудности и социальные потрясения. Честные люди видят это, но не видят выхода из создавшегося положения.
Назовут меня агентом империализма — не верь. Империализм — это далекое прошлое по сравнению с социализмом, но социализм уже тоже должен стать прошедшей общественно-экономической формацией.
Найду ли я единомышленников в борьбе? Думаю, что они будут. А если нет, то даже в этом одиночестве я буду честен. Настоящий шаг — это моя внутренняя потребность. Если бы я отказался от борьбы, я бы перестал существовать как человек, перестал бы уважать себя, я бы звал себя скотиной.
Не знаю, как в письме передать свои мысли наиболее убедительно, и очень жалею, что не мог рассказать тебе о них раньше. Я не хочу, чтобы после моего выступления к тебе были бы хоть какие-нибудь претензии со стороны властей, как к моей сообщнице. Вот почему я был нем, хотя иногда очень хотелось раскрыть тебе свои помыслы.
Примерно такое же письмо я написал своим родителям. Я тебя очень попрошу — не забывай их и помогай всячески. Как-то они вынесут сообщение о моем выступлении?!
Очень беспокоюсь об их здоровье.
Как отнесется Миша к сообщению? Постарайся ему объяснить, что я не такой плохой, каким меня будут представлять официальные органы и пресса.
Возможно, что кто-то из знакомых и товарищей отвернется от нашей семьи, как опасных для знакомства. Не переживай — такие и не должны быть достойны твоего внимания.
Я оптимист и не смотрю на выступление трагически, хотя шансов на успех примерно 40 процентов. Я уверен, что даже сам факт выступления уже дань революционному движению. Но я приложу всю энергию, все силы, чтобы довести дело до конца, т.е. до создания центра политической активности в нашей стране, на базе которого будет создана новая партия. Суть выступления — используя территорию корабля, добиться от ЦК разрешения выступить по телевидению.
Это не прощальное письмо, но все же я хочу сказать, что я очень хочу, чтобы вы с Мишей были счастливы, и я не буду осуждать ни один из твоих поступков, если ты будешь счастлива.
Может быть, тебе покажется несколько странным переход в письме от революционного пафоса к теме любви, но хочу еще раз признаться тебе в своей любви. Сейчас, в 37 лет, и накануне решительного жизненного шага, уже можно твердо сказать, что я не ошибся в выборе подруги жизни. Были у нас с тобой свои трудности, сложности, но в целом все было хорошо.
Пишу это письмо, а перед глазами проплывают Восточная, Севастополь, лыжные прогулки в Заполярье, путешествие по Кавказу, Ереван, Москва и т. д.
Верь, Нина, что впереди не менее прекрасная, а даже более прекрасная жизнь, полная честной борьбы, страстей и впечатлений.
Я хочу написать тебе свои мысли стихами Надсона:
“Ни весь я твой — меня зовут
Иная жизнь, иные грезы...
От них меня не оторвут
Ни ласки жаркие, ни слезы.
Любя тебя, я не забыл,
Что жизни цель — не наслажденье,
В душе своей не заглушил
К сиянью истины стремленье.
Не двинул к пристани свой челн
Я малодушною рукою
И смело мчусь по гребням волн
На грозный бой с глубокой мглою”.
И еще из письма Инессы Арманд дочери: “Ни в коем случае не будь из тех людей, которые, критикуя окружающее, постоянно брюзжа на окружающих, не проводят своих идей в жизни и продолжают жить совершенно так же, как все те, которых они ругают. Подобные люди или лицемеры, или слабые и ничтожные люди, которые не в силах согласовать свою жизнь со своими убеждениями”.
Я не хочу быть ни лицемером, ни ничтожным человеком. О, радость битвы!!
Больше бодрости, моя родная, больше веры, что жизнь прекрасна, что прогрессивное, революционное всегда победит!
Целую тебя крепко.
До свидания.
Твой Валерка».
— И к Вам никто не заходил эти годы, не писал, не посылал телеграмм, не, хотя бы, звонил?
— Все отвернулись, — улыбнулась Нина Михайловна. — Дружно. Боялись как огня...
Тогда, в Балтийске, Саблина работала в «мисе» — морской инженерной службе. Девятого ноября к ней зашел Михаил Семенович Жадейко:
— А не скажете ли, Нина Михайловна, какие у вашего мужа отношения с Потульным?
— Что-то случилось? — удивилась неожиданному вопросу Саблина.
— Ничего не случилось. Но все-таки?
— Нормальные отношения... Но к чему этот вопрос? Что-то произошло? С кораблем?
— Ничего, Нина Михайловна, ничего не случилось.
— Но почему вы спрашиваете? Что-то в море, да? А мы тут с Мишей было в Калининград собрались съездить...
— И поезжайте себе, Нина Михайловна, за чем дело стало? Да ничего не случилось, что вы!
 |
Жадейко титуловался ЧВС, ибо был членом военного совета.
В Калининград они, конечно, уже не поехали. Нина Михайловна зашла к подруге и вместе с ней поспешила вечером на КП, где находился муж знакомой, так же, как и Саблин, флотский офицер. Обычно неизменно приветливый, он вдруг не узнал жену сослуживца, не пожелав даже выслушать элементарнейший вопрос, отшатнулся, как от прокаженной.
Миша Саблин вместе с Потульным-младшим учился в одной школе, в одном классе. Вместе и играли. А тут во дворе подбежавшего было командирского сына мгновенно улетучил крик мамы, Надежды Игнатьевны Потульной: «Немедленно домой!»
Вечером, когда стемнело, зашел старший помощник «Сторожевого» Новожилов. Надо ли говорить, что Нина Михайловна обрадовалась. Но...
Но странно, больно и горько было смотреть на этого солидного, чуть грузноватого по комплекции, обыкновенно держащегося с видом чуть насупленной независимости офицера. Пришел вроде для серьезного разговора, но вдруг занервничал, резко смял самого себя, заговорил вдруг о своей ответственности за судьбу жены и детей, оборвал разговор не о чем и, поспешно простившись, ушел из квартиры своего замполита. Навсегда.
Она теперь вечером всегда задергивала занавески на окнах. Подошла и... окаменела. В подъезд входил быстро и как-то особенно щеголевато офицер. Ладная шинель, чуть-чуть направо сдвинутая фуражка...
Нет, нет... Этого не может быть... А вдруг!
Она так и осталась онемевшей у окна. Не слыхала ни стука, ни шагов вошедшего. А тот, сняв фуражку и молча склонив голову перед ней, как перед памятником, видимо, сразу все поняв, только и смог сказать:
— Фамилия человека, перебравшегося со «Сторожевого» на подлодку, — Фирсов. Жаль его — история безжалостна, она ему отомстит. Простите, я больше ничего не могу для вас сделать...
Поцеловав женщине руку, он молча вышел, не повернувшись к ней спиной.
Ей теперь приходилось все делать самой. И самое страшное — продолжать жить.
А ее жизнь определяли, разбирали, разглядывали на свет, выворачивали наизнанку в это время четыре офицера КГБ. Есть у них, разумеется, даже имена. Вот они: Калинин Игорь Алексеевич, Романов Альберт Семенович, Колотько Николай Николаевич и Васильев Арнольд Иванович.
Она начала метаться, пытаясь передать мужу личные вещи. И отличающийся сановной (на три строчки вертикали) подписью-вензелем майор Калинин соблаговолил составить следующую бумагу:
«Опись
вещей для передачи Саблину В.М.
1. Костюм спортивный синего цвета — 1 шт.
2. Костюм гражданский — 1 „
3. Рубашки — 2 „
4. Трусы — 2 „
5. Майки — 2 „
6. Носки — 3 пары
7. Костюм спортивный х/бумажный — 1 шт.
8. Тапочки комнатные — 1 пара
9. Деньги в сумме 30 (тридцать) рублей.
Вышеперечисленные предметы передала Саблина Нина Михайловна.
Подпись (Саблина)
Вещи для передачи Саблину В.М. получил старший следователь Управления КГБ при СМ СССР по Калининградской области
майор Подпись (Калинин)
8.12.75 г.»
И снова уже упоминавшийся выше бывший начальник политотдела «саблинской» бригады кораблей, продолжая лить цистерну дегтя на Саблина и Саблиных, будет шквально неистовствовать при разговоре со мной:
— А жена Саблина, знаете, какая она? Даже костюм спортивный мужу не передала!
Передала. А вот почему не дошел он, кто «переручкнул» его, по пути ли, в тюрьме ли, о том надо спросить у чиновников охранного ведомства, а может быть, и у столь волнующегося политотдельца.
Нине Михайловне между тем намекали, без обиняков давали понять, что в квартире этой она долго не задержится, а как дальше жить и выжить — это уж ее дело.
В Балтийск направился майор КГБ Сучков, старший следователь по особо важным делам. Какое же особо важное дело могло быть в уже опустошенной квартире?
Говорят, на родине безукоризненного сэра Вальтера Скотта часто повторяема популярная поговорка: «Мой дом — моя крепость». Но, кстати, дом Вальтера Скотта описали его земляки за долги, не вспомнили почему-то о его всемирной славе. А в Балтийске писали не романы, а протоколы. Попроще, пожестче, пожесточее. Только вот вышла неожиданная осечка-промашка.
«Протокол
об отсутствии имущества, на которое может быть наложен арест.
Город Балтийск,
Калининградской области, 22 января 1976 г.
Старший следователь по особо важным делам УКГБ при СМ СССР по Калининградской области майор Сучков с участием понятых: Першина Альберта Федоровича, прож. в гор. Калининграде, ул. Чекистов, дом 70, кв. 18, и Бамьолесси Алексея Юрьевича, военнослужащего в/ч 30889, руководствуясь требованиями ст. 175 УПК РСФСР, прибыл на квартиру обвиняемого Саблина Валерия Михайловича в гор. Балтийск Калининградской области, ул. Ушакова, дом 26, кв. 57, для производства описи имущества, принадлежащего Саблину В.М.
Понятым и жене обвиняемого — Саблиной Нине Михайловне было предъявлено постановление старшего следователя по особо важным делам следственного отдела КГБ при СМ СССР капитана Добровольского от 16 января 1976 года о наложении ареста на имущество Саблина В.М. и разъяснено их право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу тех или иных его действий.
Понятым, кроме того, на основании ст. 135 УПК РСФСР была разъяснена их обязанность удостоверить факт, содержание и результаты описи имущества.
Жена обвиняемого Саблина В.М. заявила, что все имущество, принадлежащее ей и ее мужу, находится в квартире по указанному адресу и состоит из самых необходимых вещей, нет также денег и ценностей.
Имущества, на которое по закону мог бы быть наложен арест, в квартире Саблина В.М. не оказалось.
Никаких заявлений по поводу действий следователя не поступило.
Протокол следователем прочитан вслух. Записано правильно
Понятые: Подпись (Першин)
Подпись (Бамьолесси)
Присутствующая: Подпись (Саблина)
Старший следователь по ОВД УКГБ при СМ СССР по Калининградской области
майор Подпись (Сучков)
Копию протокола получила:
22 января 1976 г. Подпись (Саблина)»
Не оказалось в двух комнатушках маленькой саблинской квартиры (третий этаж обыкновенного сборного пятиэтажного панельного дома с потолками, конечно же, не в пять метров, как на московской улице Горького) ни картин в умопомрачительных по кудрявой роскоши рамах, ни антиквариата, ни переливчатых, баснословных по стоимости мехов, ни водопадов хрусталя с потолка, ни коллекционного фарфора, ни экзотических даже по названию страны ковров с невиданным орнаментом, ни золота с мигающими бриллиантовыми глазками, ни хрустящих новенькой банковской обверткой денежных пачек, ни фамильных наследственных сверхредкостей...
«Имущество состоит из самых необходимых вещей, нет также денег и ценностей».
Перечитываю еще и еще раз эти строки. И они мне все больше и больше кажутся эталоном беззакония с одной стороны, и беззащитности человека со всех сторон.
Вдумайтесь только.
Приехали уточнить материальное положение женщины с ребенком не для того, чтобы установить размер пособия и пенсии в связи с изолированием кормильца и отца. Не с указом (приказом, распоряжением) о заботе и защите семьи, попавшей в неординарное положение. Приехали не помочь, не спросить, не посоветовать, как дальше жить.
Приехали с протоколом на изъятие. До суда и следствия.
А если бы была скоплена (накоплена) у Саблиных какая-то сумма денег — на ботинки, на переезд, просто на «черный день»? (Который, кстати, наступил у всех Саблиных с 8 ноября 1975 года на всю оставшуюся жизнь...). Значит, по закону их бы забрали? По какому закону? Кто написал? Кто подписал? Кто читал? Однако исполнителей было много. В конкретном случае трое приехали не к матерому кооператору-фирмачу, не к подпольному фальшивомонетчику, не к оборотистому мафиози-фарцовщику, не к хозяину аудио-видеосиндиката, — к офицеру. Военно-Морского Флота СССР.
Не удалось ничем поживиться, разжиться за счет чужого горя, «наложить арест» (лапу, простите, руку), прибрать, присвоить, заиметь, заполучить, захапнуть, заглотнуть — и горячий (ЦУ самого центра!) интерес комитетчиков к квартире и имуществу Саблина разом пропал, потух, улетучился. Оказались ненужными и понятые — один из которых опять (интересная закономерность) из воинской части, а другой — вообще, из Калининграда. Не соседи, как при обыске в Горьком.
Директива капитана Добровольского оказалась майором Сучковым невыполненной. По причине физической невозможности ее выполнить.
Полтора десятка раз меняла семья Саблиных место жительства, следовавшая за переводом главы семьи на новое место службы. Не нажила «добра».
Ничего не нашли в этом доме. Ничего.
Кроме совести.
Но она никого не интересовала.
Каждый из нас, или почти каждый, хоть раз в жизни побывал в Москве и Ленинграде. Столицы.
Первый раз я посетил град Петров чуть за входным порогом школы — экскурсионный вояж во втором классе. Запомнилось все, но град подавил своей тяжестью. На всю жизнь осталось впечатление ажурности воронихинского Казанского собора перед неподъемной массой монферрановской бронзовозолоченнозагорелой чернильницы. Потом будет множество поездок, в разное время года и в разные годы. Цели приездов, конечно, тоже разные — учеба, работа, деловые встречи, отдых. Но каждый визит в северную столицу запоминается конкретной деталью. В этот раз ею стал черничный шоколад...
Я шел по Литейному с вполне точной целью — найти в большом, звенящем трамваями и дышащем свежестью с каналов, Невы и Финского залива городе человека, имеющего прямое отношение к БПК «Сторожевой». Человека со «Сторожевого».
Мощное здание в самом начале проспекта. Из подъезда высыпает улыбающаяся группа, сверкающая новенькими шевронами, шерифскими бляхами, увешанная фотоаппаратами.
— Американцы, — словоохотливо объясняет дежурный УВД Ленгороблисполкомов. — По обмену опытом. Много у нас тут разных бывает. Датчане, например. Ну, а вам вот туда. — И объясняет.
Попутно знакомишься со структурой УВД.
И с ее порядками.
Дежурный за стеклянными вратами, ведущими к начальнику паспортного отдела, наработанно направил меня звонить в секретариат по внутреннему. Набрал четырехзначный номер, машинально разглядывая соседний красный аппарат с надписью «Для сотрудников КГБ».
Секретарша дробно ссыпалась навстречу по лестнице. Начальник паспортного отдела полковник Петр Петрович Попов корректно поднялся навстречу из-за стола.
Да, журналист, но... Отлегло. Отнюдь не с задачей подготовки фельетона. Тут же выяснилось, что Петр Петрович давний читатель газеты, где я работал, и ее подписчик.
— Саблин? — неожиданно оживился Попов. — Дело в том, что сам я служил на флоте. В то время, правда, в звании пониже, чем сейчас — капитана 3-го ранга, в дивизионе подводных лодок, в Кронштадте. Тогда это «дело» высшим руководством в Министерстве обороны было оценено как предательство. Саблин мне напоминает Маринеско... — без видимого перехода махнул он рукой, как будто говорил о совсем пропащем. — Нет, вы подумайте только, вместо того чтобы идти после похода на базу, Маринеско кладет подлодку на грунт, нажирается вместе со всеми. Праздновали, видите ли! За это не то что Героя давать нельзя, как тут шумят некоторые, да за это... Порядок должен быть! Вам помогут, я сейчас позвоню. И денег даже не возьмут, кстати.
Петр Петрович Попов мне действительно помог, и за помощь я благодарен. Что же касается Маринеско...
В «Военном энциклопедическом словаре» и «Советском энциклопедическом словаре» 80-х для Маринеско не нашлось ни строчки. Никчемный человек, нарушитель устава — так поделом ему! Оказывается, вон как все просто. И чего эти еще из комитетов и групп поддержки Маринеско насчет присвоения ему Золотой Звезды возникают-рыпаются! Надо же, что придумали — тысячи подписей? Ну, мало ли.
Беседуя в кабинете полковника, мы еще не знали о том, что в начале мая 1990 года Указом Президента СССР капитану 3-го ранга Александру Ивановичу Маринеско будет присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Интересно, с каким чувством прочитал его на первой полосе центральных газет полковник Попов? Службистски крякнув, переложил руль и всем говорит о беспримерной отваге командира «С-13»: «Я сам, знаете, подводник...» Или же возмущенно (вслух или про себя) костерит президента СССР? Деяния каждого оценивает только история. И никто кроме.
...Битком набитый автобус вытряхнул меня в районе ленинградских новостроек. «Зелени мало», — традиционно ноют на старой, давешней ноте. — «Добираться далеко. Что в нем хорошего — спальный район». Ну, стонут, положим, те, кто живет в них, а не стоит в бессрочной очереди на квартиру. Те же, кто живет в благоустроенных новых высотных домах с подъездами, неукоснительно запираемыми на затейливый ключ, стоящих на широких магистралях без лабиринта тупиков, рядом с небедными магазинами и в небескрайней удаленности от ритмичного метро, об этом не говорят. Другой горизонт видения. Особенно, если взирать с балкона.
Потульный Анатолий Васильевич, родился в Карелии, Калевальском ее районе — не так далеко, по российским масштабам, и до Белого моря, и до Ладоги. Столь тщательно рассчитанный выстрел командира «Сторожевого» «графа» Потульного не совсем оправдал себя — капитан 2-го ранга Потульный стал капитан 3-го ранга. Целый год писал ходатайства о восстановлении.
Добился. Выстрел зачли. Но с карьерой, да и со службой, пришлось вскоре расстаться. В 1990-м — ему 54. Пятнадцать лет спустя после «Сторожевого».
Звонок. Дверь открыла высокая интересная женщина в очках, с белой ухоженной прической.
Я поздоровался, представился, спросил, дома ли Анатолий Васильевич.
— Это ваша статья была в «Молодежи Эстонии»? — осведомилась дама.
— Да. (В это время по Союзу шла волна перепечаток моих очерков о Саблине и «Сторожевом».)
— Тогда мне все ясно, — посуровев, категорично объявила дама. Она приняла решение, определила поведение, собралась, сконцентрировалась, если и была внутренняя перестройка, то она произошла поразительно, молниеносно быстро — все перечисленное заняло не более секунды. А на это требуются и воля, и выдержка и, конечно, характер. — Проходите, проходите, пожалуйста, — гостеприимно засуетилась хозяйка, а это была именно она. — Так вы не из Таллина?
— Нет, из Риги, — повторил я.
— Скажите, а в вашей газете, — продолжала Потульная, — текст такой же точно, как и в эстонской, без изменений?
Я подтвердил и показал все части первой публикации. По квартире носились два внука, суетливых малыша, которые выясняли отношения между собой.
— Ром, прекрати сейчас же, слушайся бабушку. Вот и дядя пришел к нам в гости.
— А я знаю, что не в гости, — отозвался внук, устроившись напротив меня за столом.
Мне предложили суп с дороги, а к ароматному чаю и особый черничный шоколад.
— Если, конечно, вы не боитесь испачкать себе зубы, — улыбнулась Потульная. — Анатолия Васильевича нет, очень, очень поздно приходит с работы.
И потек длинный разговор. Нормальный, подробный, житейский, детальный до мелочей. Временами казалось, что не впервые я в этом доме, а просто был в долгом отъезде, а теперь мне торопятся рассказать, что же произошло за время моего отсутствия, и боятся, что я что-нибудь недопойму, не успею, или пойму как-то иначе, не так. Была откровенность и даже доверительность, было искреннее желание объяснить и по-честному расставить за отсутствовавшего мужа непростые акценты, увидеть 1975-й не только глазами 75-го, пропустить его через историю всей семейной жизни, увязать это и с историей по большому счету, и с днем сегодняшним. Но вот простоты, искренности не было. Целевое стремление произвести определенное впечатление иногда прорывалось вспышкой, порой тихо отодвигалось на второй, мягко отступало на третий план, но постоянно присутствовало, наблюдало, слушало разговор. Длинный, часто превращавшийся в монологи жены командира.
— Саблин. Я видела его однажды. Минут десять. Валерий... Как вы сказали, Михайлович? Образованный, приятный, такой вежливый. И жену его. Пара была друг для друга создана.
— А вот у мужа моего порядок всегда во всем был. Если куда назначить, поставить — Потульный всегда готов. Всегда на него наваливали.
— Вот (она принесла цветные фотографии). Это — свадебные сына. Это — Ира, невестка. Сыновей у нас двое: Андрей — старший, и Дима. «После того, что случилось с отцом, офицерами не будем», — объявили. Андрей «макаровку» окончил, ходит в торговом. Сейчас на Кубе. Дима вместе с отцом работает, вместе в одной организации. А, вот и он... Знакомьтесь. Это к папе по поводу...
Дмитрий залпом проглотил суп, мельком послушав, и, то ли недовольный тем, что мама рассказывает, или как она рассказывает, исчез на балкон рассматривать внутренность двора.
— Самое большое потрясение — это даже не потеря звания. Как-то приходит домой. Молча открывает холодильник, достает бутылку, наливает полный тонкий стакан и выпивает весь. «Что случилось, Толя?» А он сидит, закрыв лицо руками: «Меня исключили из партии».
Спим. Через ночь вдруг: «Горим!» — вскидывается, взбрасывается весь. «Что случилось, Толя?» — «Ничего». Снова ляжет. И опять вдруг: «Тонем!» — «Что случилось, Толя?» — «Так». И так повторялось лет пять.
В 1983-м переехали из Таллина сюда.
— Характер у него. Но говорить с вами будет. Непросто он сходится с людьми. Но я его подготовлю...
— Машину купили, «Жигули», копили долго. Когда-то пять с половиной стоили, сейчас, сами знаете... Трудно все досталось.
Хозяина в тот день я не дождался, условились о дне следующем.
Когда я выходил, порог переступила Ирочка:
— А вы, очевидно, к Анатолию Васильевичу?
Совсем было одевшийся Дмитрий, собравшийся в сберкассу, намеренно выдержал паузу, чтобы не выйти из квартиры одновременно со мной. Напрасно, мне в сберкассе делать было нечего.
— Скажите, а где же вы будете ночевать? — спросила хозяйка дома.
— Остановился у знакомых, спасибо, не волнуйтесь.
— А сейчас вы куда? — я понял, что волнует ее отнюдь не мой ночлег.
— Как раз на встречу с друзьями, мы условились.
— А где вы встречаетесь?
— На Невском проспекте, — я решил до конца выдержать полную корректность, хотя приготовился уже услышать новый вопрос: «А в каком его месте?»
На следующий день на работе Анатолия Васильевича трижды не удавалось застать: то временно отсутствовал, то сидел на совещании у директора — святое, «вытащить» нельзя, — то на обеде. Наконец, на четвертый раз...
— Встречаться нам с вами незачем, — глуховато и устало, но вместе с тем твердо произнес Потульный. — Тема эта полностью исчерпана. Наелся я всем этим за пятнадцать лет. Устал. Надоело. Хватит. Думал, все уже... А тут то один, то другой, то третий. Нечего «клубничку» искать.
— Я против нее, точно так же, как и вы. Я за выяснение истины, как она есть. Я за правдой. Если она — ваша, убедите меня в ней, поделитесь ею со мной.
— А я вас лично и не имею совсем в виду. Вы думаете, я с вами встречаться не хочу. Я ни с кем встречаться не хочу.
— Но как же говорить о «Сторожевом», не поговорив с командиром «Сторожевого»?
— А при чем тут вообще «Сторожевой»? Я повторяю, что эта тема полностью себя исчерпала.
— Ну что же, извините тогда за беспокойство.
— Вы передо мной ни в чем не виноваты, вас не за что извинять. Читатели хотели правду. Вот вы ее и написали. Все так, как было. У меня к вам претензий нет. Но тема закрыта. И незачем ее продолжать. Вы меня поняли?
Я слушал все больше обнажающий металлические командные тона голос, — а перед глазами стояли герметично задраиваемый подъезд, просторные габариты командирской квартиры, плакатный портрет Арнольда Шварцнеггера на ее стене.
«А при чем тут вообще “Сторожевойˮ?»
 |
Солгал. 9 сентября 1990 года, в воскресенье, в популярной передаче Ленинградского телевидения в самое лучшее эфирное время Анатолий Васильевич Потульный четко, ровно, безаппеляционно делал расклад «дела» «Сторожевого» и предательства Саблина.
Полтора года жили бок о бок и на берегу, и в море два человека. Все вместе. Всегда рядом. За одним столом, в одной кают-компании, у одного телевизора, за чтением одних и тех же газет и журналов. И, казалось, разделяла их только тонкая металлическая переборка, и то во время сна. А когда пришел час испытаний для обоих — выбрали разные дороги и средства. Один сказал: «Надо сломать эту машину изнутри, используя ее же броню. Что меня толкает на это? Любовь к жизни. Причем я имею в виду не жизнь сытого мещанина...» Сказал и поставил на карту свою жизнь. Другой, рассудочно оценив и взвесив (на что судьба отмерила ему много часов), не спонтанно решил, что жизнь каждого в отечестве рассчитана, предопределена и оценена сверху, что не так для него это плохо и не так уж мало. Отсюда, посягающий на существующую систему-кормилицу, — враг, прежде всего его личный. И надо ж такому было случиться именно на «его» корабле. Страшна могла быть расправа. Лишение всего, даже права на объяснения. Если только не потребуется объяснять поступок, который потрясет своей неординарностью могущественный и сам все могущий аппарат. Решение было принято. Поступок-искупление совершен.
Потульного слушали. Все зачли. А постепенно все вернули.
Саблин до сих пор — враг, преступник, нарушитель устава. Недавно отрабатывался еще один вариант его преступления, «Сторожевой» прокладывал «белый» путь в Швецию... С непрозрачным намеком на контрабанду наркотиками. Вот как...
Так зачем же понадобилось выступление на видении (о котором так мечтал Саблин) бывшего командира корабля? Во имя чести своей фамилии, передающейся по наследству сыновьям и внукам?
Выступление Потульного опрокинуло все догадки и сомнения. Он выносил приговор после приведения меры наказания в исполнение. Он приговор оправдывал, он его защищал, защищая и оправдывая людей, свершивших его.
После этого вечера не верю я Потульному. Не верю. Проверьте свою веру и сомневающиеся. Не очень, видимо, верит себе и сам Потульный, так как сидел к экрану спиной и откликался на «Васильева».
Не мог быть просчитан им этот вариант в 1975 году.
Нельзя все высчитать до конца. Наверное, очень не хотел он идти в телевизионную студию. Но уже был обязан. За благополучие надо платить. Всем. Во все времена. Разница только в размерах и разновидностях оплаты.
И пославшие так жестоко его на это испытание совершенно не задумывались о его чести, передаваемой по наследству. Честное имя скрывать нечего. Подставив офицеру чужое имя, они положили его самого на плаху переосмысления сегодняшнего дня. Это уже не отработка благополучия. Это расплата за него.
Автор псевдонима сделал попытку обелить, оправдать ситуацию: дети носят ту же фамилию.
Жаль, что подобное человеколюбие не распространилось на Саблиных.
Саблины живут, работают, воспитывают детей и умирают под фамилией, на которую посягнула государственная машина с клеймом «семья врага народа».
Для полной правды надо досказать, что Саблиным предлагалось «спасти себя и детей» заменой фамилии. Но в оплате не сошлись: надо было отказаться от мужа и брата, донести на него, разоблачить, осудить публично. Никто не пошел на это. Во-первых, потому что не знали, что осуждать. Во-вторых, и сегодня продолжают считать его самым честным, самым смелым и самым человечным среди себя, родных и знакомых. Не обменяв благополучие на предательство, живут Саблины тихо, скромно и не очень богато. Никому не жалуясь, не заявляя в милицию, не призывая общественность, смывают, соскабливают, счищают с родительских могильных плит хулу и оскорбительные надписи, заново подправляя имена: «Саблин М. П.», «Саблина А. В.». И очень верят, что настанет время, когда не только они, но и все знакомые и незнакомые люди узнают, что Валерий Саблин был честным человеком.
Наверное, придет когда-нибудь такое время.
В ожидании его живет и работает сын Валерия Михайловича.
Говорят: «Цену жизни спроси у мертвых».
Надо ли долго описывать хороший летний день? Синее небо и солнце.
Шла по Москве молодая женщина с сыном-школьником. Спрашивала, сверяясь, у прохожих. Отвечали те несколько ошарашенно и сразу убыстряли шаги, уносящие прочь — мало ли. Ведь шли эти двое в Лефортово. Ну, а за проходной там...
Короче, почтовый ящик — 201. Да не просто зона — следственный изолятор КГБ. Три цифры, три буквы и запрятанный ими человек. Родной, близкий и любимый.
Нине Михайловне Саблиной и Мише Саблину разрешили после долгих мытарств, просьб, запросов, обращений увидеть мужа и отца. На казенном языке это называется свиданием.
Первая проходная. Офицер в форме на входе-выходе. Затем вторая проходная. Двери с глазками. Солдаты. Сверху спустился офицер.
— Идите за мной, — сказал коротко.
Поднялись на второй этаж.
 |
Маленькая комнатка, вроде обычная. Неоткрывающиеся окна прирешечены снаружи.
— Садитесь.
Мать с сыном сели за стол. За другой стол, примыкающий к торцу первого, опустился офицер.
— Через стол ничего не передавать — свидание будет прекращено, — раздельно объявил старший следователь по особо важным делам следственного отдела КГБ при СМ СССР капитан Олег Андреевич Добровольский. — О деле не разговаривать, о политике ничего не говорить — свидание будет немедленно прекращено.
Соединился по внутренней связи.
Открылась дверь.
Валерий Михайлович Саблин.
— Какой худющий. Ничего — только одни голубые глаза, — прошептала потрясенная Нина Михайловна.
Она старалась не смотреть по сторонам, забыть того в форме, кто сидел так близко, что мог перехватить не только слова, а даже их дыхание.
Мишу потрясло количество людей, наводнивших небольшую по площади комнату. Кроме офицера-«перехватчика» в ней сидели еще три офицера с высокими званиями. Отца ввели не сразу. Сперва, открыв дверь, вошел конвойный — тоже офицер. Затем — Саблин. Второй конвоир, опять-таки офицер, остался сразу же вприлипку за дверью. Кроме того, в коридоре были видны еще двое. Восемь человек на одного. Немигающих, ледяных, напряженных до треска позвоночных нервов. Так проходило то, что они именовали «свиданием».
У Валерия Саблина не было передних зубов. Это заметили и жена, и сын. Нельзя было не заметить.
Валерий Михайлович был бледен, но с сыном беседовал так, будто сидели вдвоем на диване дома после возвращения Миши с уроков. Невозможно было определить, что с раненой ногой, руки велели держать под столом.
— Свидание прекращается.
Прошло от силы минут пять, даже меньше того. Но право на время было здесь в руках других.
Отец захотел обнять сына.
— Выходить запрещено. Только через стол, — приказал офицер.
Валерий Михайлович обнял сына и трижды поцеловал в щеку. И если заволновался, то только здесь, — так запомнилось сыну. Голубые отцовские глаза смотрели пытливо, ласково и нежно.
Открылась дверь, на пороге вырос конвоир. Саблин. Впереди встретил никуда не отлучавшийся «придверник». Затем еще те, другие. Взяли в непроницаемую середину. Чувствовалось, что о времени прекращения свидания весь «эскадрон» был четко проинформирован заранее. Роботы, бывает, отказывают в работе, человеко-роботы всегда законченное совершенство.
Двери начали чередоваться в обратном порядке. Нина Михайловна как будто очнулась и еще полтора часа прорывалась передать посылочку-передачу.
— Маленькая такая, пожалуйста.
Вымучив неизвестностью, взяли. А вот передали ли?
Нина Михайловна не может и сейчас отойти от оцепенения, вспоминая это свидание.
И мать, и сын стали ждать следующего. Ждали, просто ожидали встречи, «надеялись» — здесь не совсем то слово. Да и какие могут быть сомнения на этот счет, — дал свое твердое слово капитан Добровольский. Не кто-нибудь сказал, а сам Добровольский. Олег Андреевич сообщил. Старший следователь по особо важным делам. О свидании.
— Если бы я только знал, что то свидание было первым и последним, — говорит Миша. — Все было бы, наверное, иначе...
 |
Но этого никто не знал. Ни школьник Миша. Ни Нина Саблина, у которой не прекращалась чехарда третирования на работе. Ни капитан 1-го ранга в отставке Михаил Петрович Саблин. Ни мать. Ни братья — Борис и Николай.
А гигантская машина работала.
Выдох жены «Какой худющий...» и ужас в глазах жены и сына от беззубого отцовского рта были замечены. И, видимо, было «рекомендовано» смягчить впечатление в письме. Саблин это сделает. Не из страха или слабости духа, и из любви к жене и сыну, оставаясь искренним и нежным:
«Нина, вероятно, уже все рассказала о нашей с ней встрече. Я добавлю только свои впечатления. Внезапность ее появления передо мной вышибла из головы все, о чем собирался расспросить. Ну, и рад, конечно, был ужасно, а от этого тоже в голове все перемешалось. Еще раз спасибо ей за то, что добилась свидания, за передачи, за фотокарточки! Надеюсь, она выполнила мою просьбу — передать вам мои поцелуи. Как видите, чувствую я себя хорошо и даже временное отсутствие коронок на передних зубах не испугало Нину. На этой неделе поставят новые. Как мама и папа, вы чувствуете себя?» (Стоматологический НИИ.)
Коронок на передних зубах у Валерия Михайловича никогда не было. На всех остальных тоже.
Большой зал, на другой конец которого смотришь, как на противоположную сторону ухоженного футбольного поля. Но слова не теряются — выстрелами поражают виски.
— И что это вы еще стараетесь? Зачем? Все делается по закону. Слышали?
Нина Михайловна Саблина на приеме у депутата Верховного Совета СССР, председателя Верховного суда СССР Льва Николаевича Смирнова. (В органах прокуратуры с 1934 года.)
— Тогда я убедилась окончательно, что это стена.
А людям свойственно не верить, что их загоняют в безысходный лабиринт, не соглашаться, когда им закрывают рот на тройной оборот ключа, надеяться, когда надежду методично растворяют в серной кислоте.
Валерий Саблин стоял перед глазами семьи, стоял в ее глазах, не уходя. Даже, когда семья его не видела.
Проснувшись ночью, Николай обвел глазами комнату. На что бы он ни посмотрел, везде видел Валерия. Стол у стены — на нем брат всегда гладил брюки. И далекий от политики (по его же словам) младший брат вспомнил, как однажды, раскладывая брюки на столе, Валерий сказал: «Нет. Пока не возьмется за дело рабочий класс, ничего не изменится». Перевел глаза на диван. И увидел Валерия в другой приезд: «Обновлено должно быть ЦК. Омоложено...»
Семье предлагали только мертвую воду. Но она пыталась что-то делать.
Из Лефортово, из до боли теперь им знакомого почтового ящика 201, в Горький приходили письма Валерия Михайловича.
И почему-то перестали приходить. Семья терялась в догадках, бессильная понять причину. Неделю молчания сменил месяц, другой, следующий…
«Члену Политбюро ЦК КПСС
тов. Андропову Ю.В.,
Председателю КГБ при
Совете Министров СССР
Уважаемый Юрий Владимирович!
К Вам обращается Саблин Михаил Петрович, член КПСС с 1937 года, капитан 1-го ранга в отставке, прослуживший в ВМФ 27 календарных лет, участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, двух орденов Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья» и других правительственных наград.
В двадцатых числах июля 1976 года мне было разрешено свидание с сыном, но при встрече мы не говорили о содержании его вины. Нам с женой не известно, в чем выразилась его измена Родине.
В это же время мною было подано ходатайство в Президиум Верховного Совета СССР о помиловании сына. Решения Президиума Верховного Совета мы пока не получили, но с июля 1976 года по сей день мы от сына не получили ни одного письма. Вероятно, его лишили переписки с нами.
Вы, Юрий Владимирович, конечно, понимаете, как нам с женой тяжело переносить случившееся.
Жена моя — Анна Васильевна болеет паркинсоновой болезнью (плохо работают руки и ноги, часто падает), я перенес инфаркт миокарда, удалены 2/3 желудка, удален желчный пузырь, перенес операцию по случаю перитонита. Короче говоря, здоровье наше очень подорвано.
Мы с женой очень просим Вас до решения Президиума Верховного Совета СССР о помиловании разрешить нашему сыну — Саблину Валерию Михайловичу иметь с нами переписку. Это в какой-то мере поможет нам с женой переносить тяжкое горе.
Извините, Юрий Владимирович, что приходится Вас беспокоить и по другому вопросу, для нас так же очень тягостному.
Наш старший сын — Саблин Борис Михайлович (рождения 1937 года, член КПСС, подполковник-инженер) проходил службу в г. Горьком в аппарате военной приемки. Был, как нам известно, за время своей 18-летней службы на хорошем счету, пользовался авторитетом, получал повышения в должности и очередные воинские звания, не имел никаких замечаний по службе и всегда был принципиальным партийным человеком. Но в августе 1976 года его должность якобы сократилась, и он был назначен в г. Иваново на военную кафедру энергетического института на должность начальника цикла, хотя эта должность к тому времени была занята другим офицером, и для сына по опыту работы и по образованию — мало подходила. Семью свою он вынужден оставить в Горьком, так как его жена серьезно больна и находится на учете в больнице. Получили впервые в жизни свою квартиру, а перспективы на получение квартиры в г. Иваново почти нет. Таким образом, сын лишился любимой работы, совместной жизни с семьей, и мы с женой лишились моральной и физической поддержки сына.
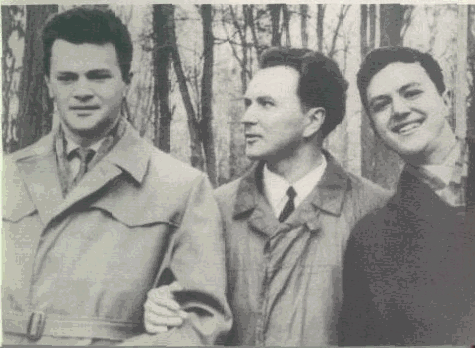 |
Неужели внезапное перемещение сына из г. Горького в г. Иваново произошло по причине того (если верить наговорам и слухам), что он, то есть старший сын Борис, «расплачивается» за брата Валерия? Я далек от этой мысли, ибо знаю, убежден и твердо верю, что за истекший период Центральный Комитет нашей партии, Советское правительство, руководимые верными ленинцами, восстановили ленинские нормы нашей жизни и утвердили революционную законность.
Уважаемый Юрий Владимирович!
Мы с женой очень надеемся на Вас и просим Вас оказать помощь нашему старшему сыну — Саблину Борису Михайловичу в восстановлении его в ранее занимаемой должности в г. Горьком, где он принесет большую пользу нашей Родине, или же предоставить возможность продолжить службу в пределах города Горького (военные кафедры, военные училища и др.).
Это сохранит его семью и даст нам с женой моральную и физическую поддержку на остатки нашей жизни.
С уважением к Вам,
М.П. Саблин.
7 января 1977 г.»
В тот же день письмо было отправлено из Горького в Москву, человеку с высоким умным лбом и холодными глазами за забралами линз очков.
Ни подтверждения получения, ни какого-либо обратного уведомления, даже в полстроки, не было.
Как и судьбоносного ответа.
Политбюро в Москве разбирало и вершило политику внутреннюю и внешнюю.
 |
Незадолго до смерти |
29 января 1977 года скончался Михаил Петрович Саблин, уроженец города Луза Кировской области, русский, 66 лет. Незадолго до смерти сфотографировался, зашел в «пятиминутку». Несколько кадриков, почти одинакового ракурса. Он проводил сверхопасные и безмерно героические, такие трагические и такие нужные полярные конвои, официальным языком именуемые, как «участие в операциях по проводке транспортов с особо важными военными грузами в ледовых условиях». Смерть уступила тогда жизни. На мигах полоски «пятиминутки» лицо человека, изможденного моральными и физическими страданиями. Лицо человека раздавленного.
Николай хотел уничтожить эти отпечатки. Но, переборов себя, сохранил — святое.
Глаза же живут, ждут, надеются прочитать.
Михаил Петрович Саблин, военный моряк с самым гордым на флоте званием капитан 1-го ранга, не прочтет то, что пришло из столицы в грязно-зеленом конверте.
Нет, это не был ответ товарища Юрия Владимировича Андропова.
Есть такие ситуации в футболе, когда правый крайний лениво перебрасывает мяч длинной, вяло-сонной, до икоты размеренной передачей налево, когда игроки тянут время специально, намеренно, со своим внутренним раскладом-прикидом. Команда, однако, называлась не ЦСКА, а КГБ.
И продемонстрировала пример чиновничьего футбола в длинный боковой пас.
«Следственный отдел КГБ при СМ СССР г. Москва, ул. Энергетическая, 3а, 6/574 от «11» февраля 1977 г.
Саблину Михаилу Петровичу
Сообщаю, что ваше заявление от 7 января 1977 года направлено для рассмотрения в Военную коллегию Верховного Суда СССР по адресу: г. Москва, ул. Воровского, 15.
Следователь следственного отдела КГБ при Совете Министров СССР Подпись (Ковалев)»
Складывается впечатление, что зная уже о смерти Саблиных — отца и сына, этим листком в Горький наносился прямой гробящий удар поддых. Ничего не проясняя, этот конверт только крепче заворачивал стальные тиски горя.
Земля, смерзшаяся от стужи, отламывалась, крошилась под ломами, комьями прикрывая долго не желавший скрыться от глаз гроб.
После похорон Михаила Петровича Анна Васильевна с постели уже не поднималась. Ноги не подчинялись светлому разуму и изболевшемуся сердцу.
Распалась семья у старшего сына — Бориса. В водовороте горя, унижений и валившихся друг за другом несчастий никто из Саблиных не упрекнул и не посмел задержать жену Бориса в семье «врага народа».
2 марта 1977 года пришло извещение из горьковского КГБ: «Саблину М.П. надлежит явиться...».
 |
Прийти мог только Николай Саблин. И он пришел.
— Отправление на имя Саблина М.П., — осадили его. — Вы что, Саблин М.П.?
— Нет, — Николай почувствовал, что ему внезапно не хватает воздуха.
— Ну так вот. Пусть его и получит гражданин Саблин... Михаил Петрович.
Нервы сдали, Николай кричал:
— Да вы что! Отец умер. Сердце. И вам это известно. Как вы смеете!
Так судьбе было угодно распорядиться, что самый «маленький», самый ласковый, самый тихий, самый оберегаемый оказался впереди. Форвардом между горем и беззаконием, насилием и безжалостностью.
Сам уже тяжело заболевший, он держался. Восемь операций впереди. Сейчас он не имел на них права. А кто же будет тогда бегать на почту, по больницам, хоронить самых дорогих и искать — искать возможность добиться правды?
— Как вы смеете! — закричал тогда Николай.
Смели. И, не мигнув, парировали:
— Удостоверьте соответствующим документом.
Только после этого ткнули названное «отправление».
«Свидетельство о смерти
Гражданин(ка) — Саблин Валерий Михайлович
умер(ла) — третьего августа тысяча девятьсот семьдесят шестого года
в возрасте — 39 лет, о чем в книге регистрации актов о смерти 1977 года февраля месяца 22 числа произведена запись за № 344
Причина смерти —
Место смерти: город, селение —
район —
область, край —
республика —
Место регистрации — отд. Загс Бауманского р-на г. Москвы
Дата выдачи: 22 февраля 1977 г.
Заведующий отделом (бюро) записи актов гражданского состояния:
Неразборчивая подпись
III-МЮ № 285021».
Надо ли говорить о том, что и на это, и на телеграмму Нине Михайловне и Мише в Калининград, куда вынужденно переехали они, надо было найти силы.
«Горький Почтамт 8602 25 21635 =
Калининград 6 Областной Ново-Прегольская Наб 65 кв 22 Саблиной
= Мы получили свидетельство о смерти Валерика мужайтесь дорогие крепитесь берегите себя крепко целуем = мама Коля =»
Некогда Михаилу Петровичу довелось столкнуться с полковником Виктором Геннадьевичем Кореневым из Горьковской военной прокуратуры. Последний и оказал потрясенной семье маленькую услугу — посоветовал, к кому можно еще обратиться.
И они обратились.
«Москва, ул. Воровского, 15.
Военная коллегия Верховного Суда СССР,
Председателю генерал-майору юстиции
Бушуеву Георгию Ивановичу
Уважаемый Георгий Иванович!
Обращается к Вам Саблина Анна Васильевна, вдова, капитана 1-го ранга Саблина Михаила Петровича.
13 февраля 1977 года мы получили извещение из следственного отдела КГБ при СМ СССР о том, что в Военную коллегию Верховного Суда СССР передано письмо, которое я и мой ныне покойный муж отправили 7 января 1977 года т. Андропову Ю.В., Председателю КГБ при СМ СССР.
Ответ на это письмо мы не получили до сих пор.
2 марта 1977 года мы получили “Свидетельство о смерти” Саблина Валерия Михайловича, моего сына, зарегистрированное 22 февраля 1977 г. Из этого свидетельства следует, что Саблин Валерий Михайлович 37 лет (в свидетельстве ошибочно указан возраст 39 лет) умер 3 августа 1976 года.
Я очень прошу Вас ответить мне:
Почему мы не получили никакого ответа на ходатайство о помиловании сына, поданное моим мужем в Президиум Верховного Совета СССР еще 20 июля 1976 года?
Почему в течение 7 месяцев после смерти сына нам ничего не сообщили о случившемся?
Как мне сообщила жена сына — Саблина Нина Михайловна, проживающая в г. Калининграде, Ново-Прегольская наб., 65—22, она до сих пор вообще не получила никаких документов о судьбе своего мужа — Саблина В. М.
Почему это произошло? Ведь она связана с ним призовыми отношениями, и, видимо, ей в первую очередь нужно было сообщить о происшедшем. Мы не знаем, может ли она, как жена, или сын Саблина В.М. Михаил рассчитывать на какую-либо пенсию? Сохранились ли личные вещи моего сына? Можем ли мы их получить?
Уважаемый Георгий Иванович!
Ответьте мне, пожалуйста. Все эти вопросы не дают мне покоя. И я не знаю, где найти объяснения и ответы на них.
Прошу Вас понять мое состояние: 29 января скоропостижно от инфаркта скончался мой муж, 2 марта я получаю сообщение о смерти сына, сама я уже несколько лет тяжело болею.
Облегчение сейчас может принести мне только объяснение того, что произошло с сыном, ответы на волнующие меня вопросы, знание того, что все случившееся согласуется с Законами Советского государства и с человеческими нормами.
С уважением к Вам Саблина А.В.
14 марта 1977 г.»
Письмо ушло и исчезло в небытие молчания, словно провалилось в колодец неизвестности, будто засосанное центром воронки водоворота вселенской глухоты.
Глубокой зимой проявился полковник Коренев. Сообщил, что из Москвы прибыл некто Голубев, подполковник, пригласил вместе с матерью в горьковский КГБ.
— Мать в больнице, — объяснил Николай. — В крайне тяжелом состоянии. Если этому подполковнику есть что сообщить, пусть приходит в палату.
— Нельзя, — замялся Коренев. — Нельзя...
И вот они в кабинете № 15 Горьковского Кремля. Николай Саблин, его изможденно-изглоданная болезнью мать, которую врачи категорически запрещали трогать с места, полковник Коренев, схвативший со стола сигареты и спички, весь разговор простоявший у окна, куря сигарету за сигаретой, выстреливая изо рта в открытую форточку остренький дымок, не обращая внимания на морозный воздух и не проронивший ни слова.
А говорил подполковник Голубев. Точнее, отвечал на вопросы Николая Саблина.
— Что же будет с Мишей? Не все вузы для него будут теперь открыты?
— Разумеется.
— А кто нам скажет, что с Валерием? Может быть, его просто забили? Или у него отказало сердце, не выдержав всего, что учинялось? Или его отравили? Или держат в психушке? Что? Где? За что?
Николай вспоминает, что у него было желание схватить первый попавшийся стул и...
Потому что лучезарно, зарево, ослепительно, чарующе, фотогенично, красиво, широко улыбаясь, гость из Москвы ответил приятным голосом, изящно сделав руками, на все вопросы одной фразой:
— Все сделано по закону.
Мать, казалось, даже не слышала ничего и никого. Возможно, просидев все это время в обморочном состоянии, когда ее уже приподнимали, вдруг совершенно ясно спросила:
— Так когда все-таки реабилитируют Валеру?
И ее отвезли в больницу.
Николай возвращался домой один.
И вдруг, неожиданно поскользнувшись, упал. Нехорошо, больно, навзничь, покатившись по ледяному стремительному склону.
И в тот же самый момент быстро вынырнула черная «Волга».
Человеческая мысль обладает невероятной способностью за микродоли секунды охватить, если не жизнь, то очень многое. В мозгу Николая пронеслись смерть отца, неизвестность с Валерием, почти неизбежно роковой исход болезни матери, свое онкологическое заболевание, сладенько-слащавая улыбочка «Все сделано по закону».
И это падение.
Эта «Волга».
Черная стремительная машина.
Накатывающая неудержимо и неотвратимо.
На упавшего человека. Беспомощно и неподвижно лежащего с открытыми глазами. То было не отчаяние.
И не ужас.
Ни кем не меренная безысходность.
Черная «Волга».
«Черт с ней! — пропульсировала мысль. — Пусть давит!»
Черная машина, все-таки, использовала тормоза.
Но из нее никто не вышел. Не помог. Не спросил. Не окликнул.
Черная «Волга» подождала, пока разбившийся человек тяжело, с трудом, сам поднялся и побрел, не обернувшись.
Машина плавно поехала дальше, завив хвост выхлопного дымка.
В Горьковском Кремле много таких машин.
Мать, Анна Васильевна Саблина, умерла 26 июля 1978 года после тяжелых страданий.
«Дружба» — будильник на 14 камнях. «В день свадьбы от Пастуховых». Стрелки давно остановились.
«Спорт-2» — продолговатый маленький транзисторный приемник. На приемнике гравировка: «В.М. Саблину в знак уважения и признательности от офицеров СКР-793. 22.08.1969 г.». Приемник не работает тоже, — пальчиковые батарейки 1980 года.
Эти вещи молча хранят память.
 |
Ниночка Чумазова, Нина Саблина, Нина Михайловна.
Суповая тарелка с двумя столовыми ложками на крохотном столе в Североморске. Нина. Ниночка, «Синичка», весело смеющаяся, пока Валера хлопочет с фотоаппаратом, сидящая в фартуке хозяйки на стуле, на спинку которого накинут китель с лейтенантскими погонами мужа. За спиной — железная кровать. Справа от кровати — ниша в стене, завешенная простынью, где на гвоздях висит одежда, и стоит второй стол, «исполняющий роль буфета».
И пусть фраза в письме мужа: «С продовольствием у нас хорошо. Кроме мяса все есть», — это ли главное?
Главное, они молоды, прекрасны и счастливы.
Лыжный ли поход, заготовка дров охапками, треплет-«мутузит» ли Нина лайку за голову, объясняя ей, что нужно сфотографироваться; заставляет ли Валерия надеть шерстяной свитер — «обязательно»; вписывает ли, смеясь, в письмо шутящего мужа «Болтуха Валера!»; ругает ли изволтузившего штаны в уличном хоккее Мишку; собирает ли в белынских лесах грибы — искать умеет (недаром Валерий гордо называет заповедное место «Нинкина целина»); поднимается ли по трапу «Адмирала Нахимова» — красивого парохода на красивом море под красивым небом (путешествие с самым красивым офицером флота — Валерием Саблиным); сидит ли с мужем в партере Большого на хачатуряновском «Спартаке»; волнуется ли, следя за военными учениями, ожидая возвращения мужа из похода; читает ли почетную грамоту за подписью командующего Краснознаменным Северным флотом — «Саблину Валерию Михайловичу — За инициативу и настойчивость в обеспечении испытаний нового оружия и техники»; решает ли с сыном задачи, готовит ли что-то вкусное, проклинает ли длиннющие очереди и одновременно стоит в них, — это все естественно, привычно, буднично, так и должно быть, — это семья, сын, муж. Это жизнь. Жены моряка. Постоянные переезды, тревоги, хлопоты. А как же иначе? Какая жизнь военного моряка без забот? Какая жизнь без любви? Любовь невозможна без памяти...
В начале марта 1977 года эта женщина получила телеграмму из Горького, куда дошло «Свидетельство о смерти В.М. Саблина». Пришла страшная весть о страшном свидетельстве и таком же странном и непонятном. Ибо в нем, на одном маленьком бланочке, были допущены серьезные, грубые, топорные ошибки. Неправильно указан возраст Валерия Саблина — 39 лет. На самом деле в 1976 году ему было 37 лет. Далее, — число, месяц, год смерти обязательно указывается сначала цифрами и только затем прописью. Здесь же — только размашистой, вальяжной (не оставляющей места для цифр) прописью. В графах «Причина смерти», «Место смерти», «город, селение», «район», «область, край», «республика» — небрежные, неровные прочерки. В графе «Место регистрации» (наименование и местонахождение органа ЗАГСа) — не стоит соответствующий факсимильный штамп. Сама печать весьма бледна. Подпись заведующего неразборчива. И не подтверждена, не расшифрована факсимильным штампом с ясно различимыми инициалами и фамилией.
Итак, 9 (девять) ошибок на госзнаковском бланке с государственным гербом и водяными знаками «СССР».
Ошибок, за которые немедленным увольнением поплатился бы сразу любой загсовский работник. Да которые он попросту никогда бы и не допустил...
Пришло свидетельство на человека, которого семь месяцев считали живым. Которому писали, о котором хлопотали, за которого боролись, от которого ждали писем. Через несколько дней после телеграммы, подписанной «Мама, Коля», ее вызвали.
«Военный трибунал дважды. Краснознаменного Балтийского флота, 9 марта 1977 г., г. Калининград (обл.)-100
Уважаемая товарищ Саблина,
Прошу Вас 10 марта 1977 года в 18 часов 30 минут прийти в военный трибунал БФ по адресу: ул. Кирова, 24, для беседы. Если Вы не сможете прийти 10 марта, то прошу Вас прийти в то же время 11 марта.
Председатель военного трибунала дважды Краснознаменного Балтийского флота Подпись (В. Бобков)»
Ехала, шла, бежала на любой вызов. Нет, и этот вызов, хоть и был в форме вежливого приглашения, не дал ответа ни на один из вопросов.
Нина Михайловна и Анна Васильевна продолжали писать, пытаясь хоть что-то узнать. Продолжали биться, как им казалось, бороться за любимого человека. Они продолжали не верить в его смерть. Даже в ее возможность.
Формальные, пустые, лживые, тупые и очень лаконичные официальные ответы не по существу запросов и прошений только истязали души и наполняли горем горьким дни обеих затравленных и потерявшихся женщин. Недомолвки, неточности и неполнота ответов закрадывали сомнения, утверждая в женских сердцах то, во что так хотелось верить...
«Президиуму Верховного Совета СССР
от Саблиной Анны Васильевны, проживающей в г. Горьком, ул. Свердлова, д. 30а, кв. 35.
Саблиной Нины Михайловны, проживающей в г. Калининграде, Ново-Прегольская набережная, д. 65, кв. 22
В июле 1976 года мы подавали прошение о помиловании Саблина Валерия Михайловича.
Просим ответить на следующие вопросы:
1. Когда состоялось заседание, на котором было рассмотрено наше ходатайство?
2. Почему нам своевременно, то есть сразу же после заседания, не сообщили о решении Президиума?
3. Почему нам не выдали вещи и рукописи, которые писал Саблин Валерий Михайлович, находясь в тюрьме.
Ответ просим выслать в оба адреса».
Ответ не пришел ни в один из них.
«В военную коллегию Верховного Суда СССР от Саблиной Н. М.
Обращаюсь к Вам с просьбой сообщить, где похоронен мой муж — Саблин Валерий Михайлович. Прошу передать нам его письма, рукописи, которые он писал, находясь в тюрьме, личные вещи.
Вероятно, он оставил прощальные письма, просим передать их нам.
Разъясните, пожалуйста, почему сообщение о гибели мужа пришло с опозданием на полгода.
Свидетельство прошу выслать в г. Калининград,
Саблина Н. М.
19.03.1977 г.»
Ничего возвращено, передано, разъяснено не было. Каменная стена каменно молчала.
«Уважаемая тов. Саблина,
Прошу Вас 7 апреля в 18 часов 30 минут прийти в военный трибунал Балтийского флота для беседы.
Если не сможете прийти 7 апреля, прошу прийти в то же время 8 апреля 1977 года.
Председатель военного трибунала БФ
Подпись (В. Бобков)»
Где муж? Как? Что с ним?
В ЗАГС Бауманского р-на Москвы:
«Прошу выслать свидетельство о смерти моего мужа — Саблина Валерия Михайловича, по адресу: г. Калининград, обл., 236006, Ново-Прегольская наб., дом 65, кв. 22. Саблиной Нине Михайловне,
Саблина Н. М.
13.04.1977 г.»
Ответ в три корявые строчки от руки, без какой-либо подписи, на листе ее же запроса.
«Просим сообщить, в каком году умер ваш муж».
И только в мае 1977 года Нина Михайловна Саблина получила «Свидетельство о смерти». За номером III-MЮ 285021. Казенное, равнодушное, жестокое и небрежное извещение о конце жизни и начале смерти.
И снова над бланком с водяными знаками «СССР» надругались, как хотели.
Над чувствами, болью, нервами семьи — в неменьшей мере. Ну, а степени предела просто не знали. Не привыкли не издеваться.
Когда видишь мягкую, внешне выстраданно-ровную, оплачиваемую посегодня бессонницей скорби и веры улыбку, то физически ощущаешь панцирь трагедии, в которую ее вдавили «вершители». Декабристки последовали за декабристами. Из роскоши родовых дворцов в тряскость перекладной кибитки, через делящий две части света «каменный пояс», в хмарь рудников. Но у нее намеренно отняли это право, на которое не смог посягнуть император Николай Первый.
Отняли Право быть рядом.
Она не была на суде, она даже не знает, а состоялся, проводился ли он. Ей лицемерно сулили свидания, ее терроризировали «документами», больше смахивающими на нашинкованные бумажки, намеренно держали с самого начала и до дня теперешнего в полном неведении, постоянно давали понять, что она бессильна, беспомощна, безнадежна. Ничтожна.
Нина Саблина посылала, тщательно собирала, раздобывая, разыскивая, посылки мужу. С самым качественным, вкусным, лучшим. Но она даже не знает, доходили ли вообще эти передачи. А если доходили, то что из собранного с таким трудом.
Потому что и тогда, и сейчас она могла рассчитывать только и исключительно на саму себя. Ни пенсии, ни пособия, ни выплаты, ни какой-либо помощи. Ни ей, ни сыну. Государство (верховный аппарат), «решив увидеть» в капитане 3-го ранга Саблине «врага народа», как с «семьей врага народа» расправилось и с семьей.
Нина Михайловна Саблина смогла выжить, выстоять, выдержать, не сломиться, не согнуться, не пасть поверженно ниц. Смогла вырастить и поставить на ноги сына. Сохранить, спасти, уберечь самое сокровенное — веру, надежду, любовь.
Долгими ночами она будет перечитывать Анну Ахматову.
«Любовь всех раньше станет смертным прахом,
Смирится гордость, и умолкнет лесть,
Отчаянье, приправленное страхом,
Почти что невозможно перенесть».
На последнее отчаяние сделана закладка:
«А как музыка зазвучала,
Я очнулась — вокруг зима;
Стало ясно, что у причала
Государыня — смерть сама».
 |
Нина Саблина выжила.
Так было надо. Она стала бесправной главой семьи в четыре человека с зарплатой 83 рубля. Ничего ни у кого никогда не прося, она жила и живет среди живых, не осуждая мертвых.
«Я никогда не могла позволить себе занять деньги, так как точно знала, что не смогу их отдать». — Она сказала это просто и естественно. В никуда.
Не пытаясь вникнуть в бурю сегодняшних страстей перестройки, потому что в потоке страстных речей, бесплодных дискуссий она не различает лиц. Она никому не верит, и прежде всего — самой справедливой, самой гуманной, самой-самой — системе. Системе. Самой безликой в ответственности, где некому предъявить счет за «отчаянье, приправленное страхом».
Нина Саблина не верит, что справедливость победит. Не верит тихо, спокойно, без малейшего всплеска женских эмоций. Не верит так, как будто ее нет. Я первый раз в жизни испытал чувство страха.
Какой же силой надо обладать, какой арсенал методов самой высокой квалификации освоить, чтобы непрочно внушить оставленным в живых принципы непоколебимости, незыблемости и несокрушимости прав и методов вышестоящих органов, и, раз и навсегда, разрешенных кем-то и регламентированных норм жизни и поведения для всех остальных. Где человек имеет право на жизнь при обязательном условии — не посягать на структуру системы, решетку ее конструкции, пирамидальный каркас. Талоны на жизнь? Страшнее. Самые мрачные предчувствия Александра Беляева очень быстро превзошла жизнь по-системному. Она породила не одного, а тысячи продавцов воздуха.
 |
С ним мы разговаривали, быстро определившись, что мы на «ты». Да могло ли и быть иначе? Я всего на несколько месяцев старше своего собеседника, ему, как и мне в год первой нашей встречи было 28. У обоих позади школа, вуз. Сейчас работа. Нам не надо объяснять, втолковывать друг другу, какое было время и какое сейчас. Наши жизненные часы были пущены одновременно.
Я называю его Мишей, он зовет меня Андреем. Миша Саблин. Михаил Валерьевич Саблин.
Он работает младшим научным сотрудником лаборатории млекопитающих Зоологического института АН СССР. Научный кумир — профессор Николай Кузьмич Верещагин. Миша работоспособен, часто выезжает в научные экспедиции. На полке микрометеоритная плантация осколков интересных пород. Земля не сразу и не всем отдает свои тайны. Плюшевый, толстенький, серенький динозаврик с розовыми треугольниками — флажками по эластичному хребту. На боку домашнего страшилища — памятный значок. Гигант не обижается, привык.
Для Миши Саблина непреложно то, что его отец — не политический авантюрист, не уголовник. Он убежден, что его отец поступил, как было должно. Другое дело... Что?
— Другое дело, что все это время я все хранил в себе. Даже с мамой мы, в общем-то, на эту тему не говорили.
Все сверстники-ровесники мгновенно, как и их родители, вычеркнули его из списков своих друзей. Он стал опасен даже для ничего не значащего разговора. Он был из семьи «врага народа». И произошло это не в 1937-м, а в 1975-м.
И то, что мать мало говорила с Мишей об этом — понятно тоже. Какая же мать не любит своего сына, какая же мать не сделает все возможное, чтобы уберечь его от глубоких душевных ран, рытвин на жизненном пути, какая же мать забудет о благополучии своего ребенка. И она сделала все, чтобы заслонить собой Мишу, переключив все горе на себя.
На лефортовское свидание с отцом Миша приехал с дачи под Ленинградом, где отдыхал. О драматических коллизиях столкновений родственников с государственной машиной ему не рассказывали или почти не рассказывали. И продиктовано это было соображениями высшего порядка — зачем лишний раз травмировать и так травимого мальчишку. Не хочу говорить о командовании полком Голиковым — Гайдаром в четырнадцать-пятнадцать, о стойкости немногим старшего Шолохова на допросе у закапывающего коммунистов живыми Нестора Ивановича Махно — это выглядело бы начетничеством.
Нечего ни покачивать головой, ни пенять, нет права укорять. Попробуем представить себя на этом месте. Когда ты один, а на тебя рухнуло такое привычное небо. Все. Целиком.
Кому тут верить? Чего ждать? На что надеяться? Какие тут еще могут быть перемены? В пустыне можно найти воду, но когда кругом один пепел... Какие советы, рецепты, предложения?! Это горше хины, больнее гвоздей, острее иголок под ногти. Так не прав ли, может, даже прозорлив-предвидящ мой собеседник-ровесник:
— Это тоже самое, что головой о стену. И сейчас я не уверен... И сейчас я уверен, что ничего не изменится.
— Даже сейчас, в 1990 году? — спросил я, закусив губу.
— Даже сейчас, в 1990 году, — ровно уточнил Миша.
И мы очень долго еще говорили. Мелькнула мысль, хотя я попытался ее прогнать — может, не стоило так уж ограждать Мишу дачей в прямом и переносном смысле. Я не о жестокости. И, упаси бог, не за нее. Но, ограждая Мишу от несправедливой действительности, самые близкие люди оградили его и от подвига. Самого высокого. Заставив тем самым носить и то, и другое внутри себя. Ноша, которая могла стать непосильной и для более умудренного и закаленного человека. Мальчик остался один на один с окружающим миром и самим собой. Сам должен был дать оценку поступку отца. И, сделав это, выстоять с его помощью, не разрушая при этом окружающие его миражи молчаливой опеки родных и близких. Я не мог отделаться от ощущения, что Миша и сейчас продолжает жить в этой «заданности».
 |
Преемственность, традиции? Да. И Нина, и Валерий хотели только сына. По обоюдному согласию назвали его в честь дедов. Прапрадед, прадед, дед, отец Миши — военные моряки. Четыре поколения военных моряков — история флота почти за столетие.
Вольно или невольно, но я смотрел на Мишу глазами его отца, Валерия Саблина. Потому что читал его многостраничные письма, полные семьей, жизнью, немыслимой для отца без Миши. Вместе с отцом я запомнил дни, когда Миша болел ангиной и у него была температура; вместе с ним закалялся: ходил на лыжах, коньках, в бассейны, в прибойную невысокую, крепкую балтийскую волну, вместе с ним на елки и в театры, болел за непроигрывавших тогда хоккеистов сборной, приохочивался к рыбалке, вникал в литературу и историю, донимал отца вопросами, носился по дорожкам парка, возился с кошкой Муськой…
До того, как мы встретились с Мишей, я знал о нем очень много. Видел я и многочисленные Мишины фотографии, — отец охотно и много снимал. Детали, такие ясные, четкие и резко запоминающиеся, сливались вместе и рождали образ внимательно всматривающегося в жизнь мальчишки, семье и окружению которого можно позавидовать, который вне всякого сомнения продолжит собой отца.
Преемственность. Можно еще раз повторить про гены. А почему нет? Недаром же Валерий Саблин в собранных им материалах о лейтенанте Шмидте особо подчеркивает все, связывающее Шмидта и сына. Они всегда были вместе. «Очаков», Севастопольская бухта, тюрьма. Не может быть в природе копий, но в жизни есть примеры. И здорово, когда они утверждают добро всей своей жизнью — внешне, может быть, совершенно такой же, как и у всех людей.
Валерий Саблин с удовольствием отмечает, что Миша, получив в подарок подзорную трубу, подолгу торчит с ней на балконе, всматриваясь вдаль.
Что видел он? Нахимов различал красные всполохи Синопа; не желавший подчиниться бессмысленному приказу Нельсон вдавливал окуляр в выбитый глаз, ну, а гриновский капитан Грэй не просмотрел с борта парусного «Секрета» замызганную Каперну со своей судьбой и счастьем.
Мне не хотелось расставаться с Мишей, но он спешил к Светлане. Своей Светлане. Самой-самой. Это естественно. Они не так уж давно поженились, учились вместе на факультете.
Я пошел его проводить. Он не приглашал к себе домой. Я не набивался. Мы говорили обо всем и ни о чем. Миша, не мигая, выдохнул, как самое сокровенное, как человеку, которому можно доверить или которого можно попросить:
— А может, это ничего не надо?! Светлана ничего не знает...
Земля ушла, поплыла куда-то из-под ног, как рывком выдернутый ковер, уши заложило, как в воздушной яме, даже воздух в горле разом сбился в непроглатываемый комок. Все. Кончено. Все напрасно. Впустую. Поиски правды, как и сама правда. Отмывание подвига, как и сам подвиг. Воскрешение из мертвого, — да жил ли этот человек?
Система победила. Не будет знать внук Валерия Михайловича Саблина, чью фамилию он носит.
Будьте прокляты все, кто отнял право у Миши «быть». Методично, безжалостно и профессионально.
Палачи могут и дальше спать спокойно, пользоваться своими уставными благами, чванливо принимать поздравления в День Военно-Морского флота. Рассказывать внукам о своих заслугах перед родиной, о борьбе с врагами советской власти.
Сын Саблина их не потревожит.
Потому что он не верит, что что-то можно изменить в нашем обществе, даже ценой своей жизни. Это не зачтется ни тому, кто пойдет на это, ни его близким. Которые станут живыми заложниками уставных экспериментов с несмываемым клеймом «семья врага народа».
Он жертвует собой. Он умер, живя. Чтобы только его наследник не знал отчуждения сверстников, безжалостного клейма «внук предателя», постоянных вызовов на непонятно какие комиссии и комитеты, в организации и кабинеты для заполнения анкет с многочисленными вопросами, где обязательно есть один: «был ли кто-нибудь из родственников судим...»
А что делать с родственниками? Всем близким и дальним родственникам и знакомым было заявлено, что Валерий Михайлович Саблин умер в походе. Заболел и умер. Так проще. Доступнее. Так, видимо, было надо. Чтобы не потерять и их. Сохранить их для внуков.
Я ходил по улицам Ленинграда, по местам, по которым ходил Валерий Саблин, где он ждал свою гордую Нину, у Крестов, где убивали и убивают инакомыслящих…
И, смотря на эти, непоколебимые временем, революциями, предсмертным отчаянием, стены, подумал, что нам еще понадобится несколько дремучих веков, чтобы мы все могли в спорах рождать истину и уметь слушать собеседника. И тогда Кресты обязательно разберут на мостовые. Жаль, что в этом будничном деле не будет Саблиных. Несправедливо.
Я вернулся с чувством непроходящей горечи.
Только жить. Надо быть.
Быть или не быть решает за себя человек. И только он. И никакая система, будь то система насилия над личностью, будь то система убийств личностей, будь то система подавления личностей, — не в состоянии приказать человеку не быть. Не дано. Система может низвести человека до нечеловеческого состояния. Это ей дано. Вернее, это она сама себе присвоила.
Нина Михайловна Саблина решила за всех сама, одна и навсегда. Ее сын, дети ее сына и дети детей будут носить славную фамилию беззаветно любивших родину мужественных оружейных мастеров древней Вологодчины и четырех поколений, не посрамивших флага флота и Отечества военных моряков.
Подержав в руках пожелтевший от времени, нервно надорванный конверт с письмом, Нина Михайловна протянула его мне: «Не знаю, право, как выпускать его из своих рук. Ничем не заменить...».
Письмо впервые на время покинуло родной дом.
Это система не запланировала и потому проиграла. Нет, не из-за нехватки сил или недостаточной квалификации. Система проиграла в неравном поединке со слабой беззащитной женщиной — Ниной Михайловной Саблиной.
Пройдя через казавшиеся в те недавние времена законными допросы, отверженная обществом, она избрала для себя и своей семьи единственно возможный путь. Она победила могущественную государственную машину своим молчаливым неверием и презрением к ней. Гордая, строгая, печальная, красивая и до боли трагическая беспомощная женщина не отдала ни в чьи руки (ни родительские, ни родные, ни, обыскивающие даже туалеты, государственные) свое право и право сына на истину, а значит, на право «быть».
Нина Михайловна Саблина разрешила напечатать в книге письмо-завещание Валерия Михайловича сыну. Письмо, которое безуспешно разыскивали государственные чиновники, и которое в течение 15 лет тайно, украдкой перечитывалось одинокой женщиной регулярно — в дни рождения мужа и сына, и нерегулярно — в дни особых обид и унижений.«Дорогой сынок Миша!
Я временно расстался с вами, чтобы свой долг перед Родиной выполнить.
Не скучай и помогай маме. Береги ее и не давай в обиду.
В чем заключается выполнение моего долга перед Родиной?
Я боюсь, что сейчас ты не поймешь глубоко, что меня толкнуло на путь революционера, но подрастешь и все станет ясно. А сейчас я тебе советую прочитать у Горького рассказ о Данко. Вот и я так решил рвануть себе грудь и достать сердце.
Читай, Миша, больше про революционеров и не переставай восхищаться их мужеством. Я всегда брал с них пример. Они отдавали свою жизнь народу сразу или постепенно, но всегда с радостью, гордостью и верой в светлое будущее.
Каждая эпоха порождала своих героев за свободу народа, — вспомни Спартака, Пугачева, декабристов, революционеров-ленинцев.
Сейчас у нас сложилась такая обстановка в стране, что снова из толщи народной появится слой революционеров, способных повести народ к более лучшему обществу — коммунистическому.
Пожалуйста, не принимай близко к сердцу те колкости, а, может, даже гадости, которые будут говорить про меня некоторые люди. Одни из них просто по недомыслию, а другие от злобы, что потревожили их обеспеченный уют.
Помнишь у Горького: “и гагары тоже стонут...”.
Будь спокойным и мужественным. Верь, что история рассудит, кто есть кто, и тебе не придется краснеть за своего папу. Не для личного обогащения и славы вступил я на эту опасную, но прекрасную дорогу революционной борьбы.
Я очень желал бы, чтобы ты был всегда честным человеком и, хорошо бы, каким-нибудь ученым. Под «ученым» я подразумеваю человека бескорыстно преданного своей науке, своему делу, глубоко понимающего самую суть дела. Я считаю, что мизинцем прикоснулся к науке философии в академии, и это мимолетное знакомство оставило неизгладимое впечатление величественности, таинственности и привлекательности.
Для работы в науке надо иметь честное мышление, т.е. не подстраивать свое мнение под окружающую публику, надо иметь твердый характер, настойчивость и оптимизм.
У тебя все эти качества есть, только их надо шлифовать.
Ну, вот, кажется, и все, что я хотел тебе написать.
Целую крепко.
До свидания.
Твой папа.
15.10.75».
 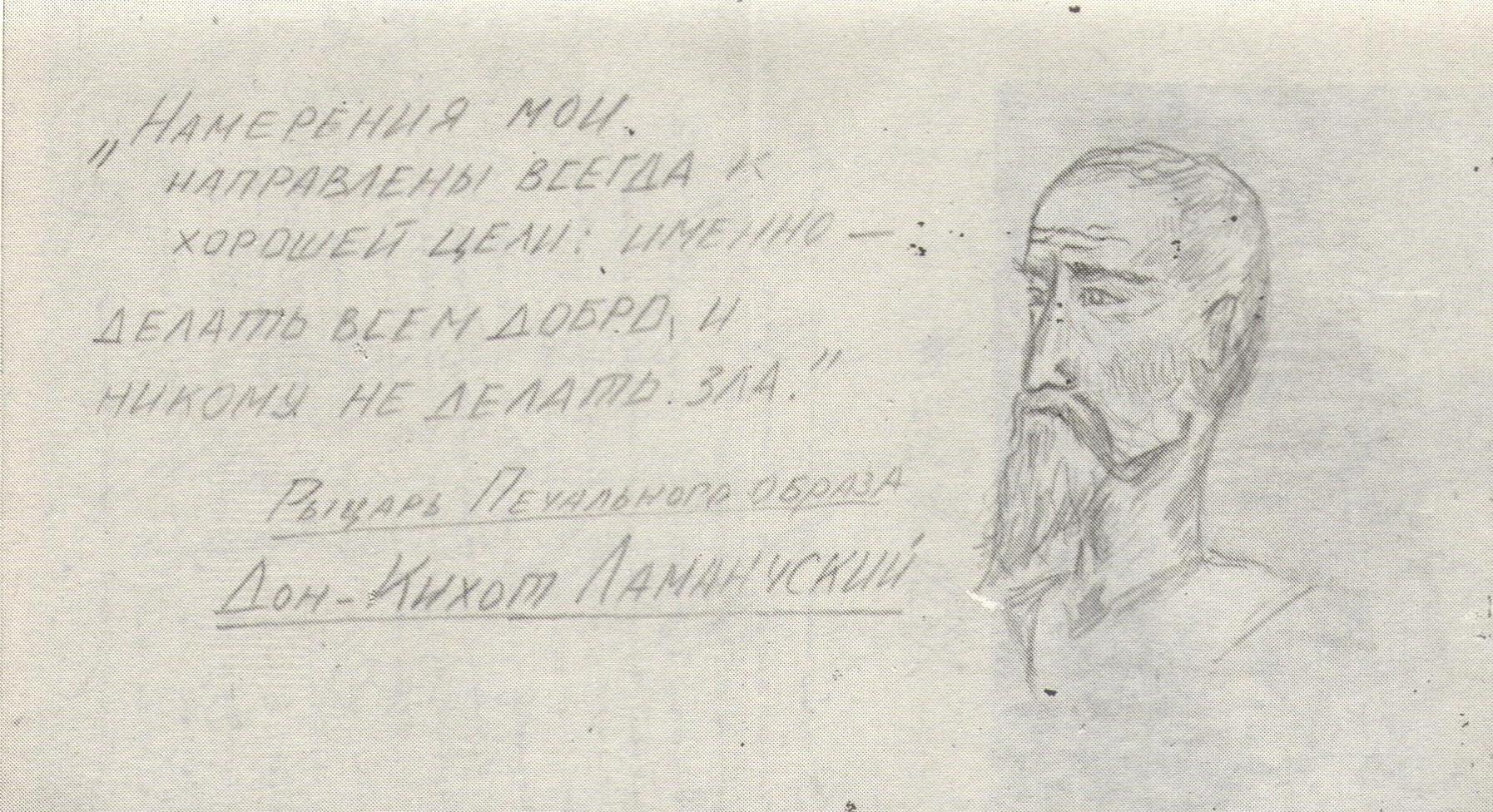  |
При всем цинизме и хорошо читающейся в приказах Николая Второго неприкрытой злобе по делу «потемкинцев» («Жестоко наказать», «Судить самым скорым полевым судом», «Приговор привести в исполнение перед всей эскадрой и городом Одессой»), надо отдать ему палаческое должное — монарх брал все-таки ответственность на себя.
О восстании «Сторожевого», пусть даже в краткой и обтекаемой форме, не появился приказ по флоту — беспрецедентный случай в истории ВМФ.
Сфабрикованное дело замазывали. Причем поспешно. Стирая следы и память. «Не было ничего этого».
Сказать правду. Быть искренним — не всем дано. На это то же надо иметь личное мужество.
Как у капитана 2-го ранга Льва Викторовича Светловского.
— Готовился я тут к вашему приходу, — сказал Лев Викторович. — Но ничего не скажу — боюсь.
— Чего, кого, простите? В живых нет ни Брежнева, ни Горшкова, ни Гречко, ни Устинова, ни Андропова.
— Ха-ха! Живы их преемники. А у меня сын служит на Тихом океане, военный моряк. Да и сам... В самый кратчайший срок. Должность, звание. Без права ношения мундира. Без пенсии! Тогда стоял на параде — в белых перчатках, в шарфике — белом, как...
Я еще попытаюсь... Выбью пенсию. Асмолов Витя уже трижды пытался, особенно после смерти Горшкова. Ездил к Чернавину, а тот его не принял. Не допустил. Отказал. С адъютантом встретился только, с капитаном первого ранга. В конце года я попытаюсь еще раз...
Разговор все-таки состоялся. Лев Викторович остановился на том, на чем посчитал нужным остановиться. И сделал главный вывод:
— А мне все равно, какой строй — коммунистический, рабовладельческий, капиталистический, феодальный или социалистический. Есть устав — не сметь его нарушать! Пусть и царский...
— А как же «Потемкин»?
— И «Потемкин». Все равно. Устав есть устав!
Да, «глухи были господа офицеры, слишком прочно сидела в них боязнь за свою карьеру, слишком слабо было в них чувство долга».
Нет, это слова не Валерия Михайловича Саблина, а лейтенанта Петра Петровича Шмидта...
Все повторилось. Надо ли удивляться нежеланию чинов говорить о «Сторожевом», их неприятию Саблина и даже злобе по отношению к нему? Ведь именно он, Валерий Саблин, остановил их продвижение в следующий, еще более высокий чин. Заморозил на месте их уют, сделал невозможной роскошь. Не нужен был идейный замполит на этой торной дороге.
Устав для Льва Викторовича — не история флота, традиции, достоинство, честь, совесть, идеалы и идея. Устав — это солидная зарплата, такая же пенсия, «добрая» квартира, представительный мундир. Пайка, одним словом.
Только вот ведь какая незадача, если красный флаг на «Потемкине» подняли — не по уставу... Но пока оставим это. Проследим логическую цепочку.
Если Великая Октябрьская революция — не по уставу, не по уставу действовали большевики, сметя бонапартика Керенского и потряся (не по уставу) весь мир, то не по уставу и советская власть, не по уставу и все советское государство, не по уставу и все его государственные институты, образования. В том числе и армия, и флот. А раз так, то совсем не по уставу и столь ценная пайка уважаемого Льва Викторовича, и не по уставу... он сам.
Все, вместе взятое, представляет собой одну гигантскую игру в наперсток. Наперсточники от системы — это обман, ложь, клевета, разветвленная и разработанная система палачества, сыска, слежки, доноса, коварного удара исподтишка, санкционированной подлости, директивной травли, заказанно оплаченной хулы. Наперсточники пониже — точные копии наперсточников повыше. Разница только в масштабах власти.
Сквозь «футбол перепасовкой» прошла вся семья Валерия Михайловича Саблина. Ее судьбами была разыграна «обычная» партия в наперсток...
Сейчас в армии и на флоте стало привычным видеть зуботычины, мрак дедовщины, презрение старших чинов к младшим по званию, расхлябанность. Более того, армию, всегда плоть от плоти народа, начали расклинивать с ним, всучивая ей несвойственные карательные функции, расчленяя, распродавая, перераспределяя, переподчиняя и засовывая ее в окопы противоборствующих сил. Эта книга не против армии и флота, а в их защиту. Потому что армия и флот — это отнюдь не одно и то же, что представляет из себя верхушка, традиционно именуемая военно-промышленным комплексом. И у нас есть его хищные ястребы. Именно против них и направлен этот рассказ.
А у армии и флота лучшими традициями всегда были, есть и, верю, будут — честь, достоинство, совесть. Эти традиции стирает не кто иной, как те же самые вечно ненасытные ястребы. «Выполняя преступные бюрократические предначертания, они отворачиваются от народа», — говорил о них лейтенант Шмидт. Стирают замалчиванием, перевиранием, сокрытием, игрой в наперсток человеческими головами, изворотливостью уверток.
Поэтому я не хочу, чтобы правда о «Сторожевом» была вечным небытием. Лучшие качества офицера Военно-Морского Флота унаследовал потомственный моряк Валерий Саблин. Не растерял. Не уронил. Не продал за «звездочки».
 |
Валерий Михайлович Саблин и парни со «Сторожевого» присягали Родине и народу, а не партии, не партгосаппарату и не военной верхушке.
Подмена священных обязанностей одних самовольно присвоенными правами других — попытка оправдать незаконно вынесенный приговор по сфабрикованному делу и уйти от ответственности сегодня и завтра.
За подмену этих понятий в рамках государства расплачиваются сейчас и народ, и армия.
Попытка вчерашних, выдававших себя за ум, честь и совесть всей эпохи, переложить свою вину на других и в первую очередь на армию, затерявшись самим в зловонной жиже лжи, клеветы и травли мужчин в военной форме со стороны махровых радикалов от демократии и фашиствующих националистов, — результат подмены понятий и смещения акцентов обязанностей и ответственности.
 |
В 1975 году на растерзание был брошен один корабль. Для острастки всем и оправдания своих противозаконных (противоуставных) действий.
В наши дни на растерзание брошены целые народы и вся армия. Для отвлечения от истинных причин катастрофы и персональных виновников случившегося. Агония системы, аппарата, идеалов.
И именно здесь наперсточники терпят крах. Вчерашние и нынешние. Нынешние, — это перекрасившиеся, переметнувшиеся и использующие несчастия других для своей пользы и выгоды вчерашние. Поэтому не нужным оказался Саблин и сегодняшним «демократам».
Единственное оружие против них — время.
Время не подшивается в папку с грифом «Совершенно секретно».
Время — часть истории.
Оно против кривды.
Поблажек и отпущения не будет — подлость как вечный несжимаемый нашейный камень.
Финал?
Мы с вами его свидетели и участники.
В 1975 году был поставлен вне закона Саблин.
Сегодня, все и всех предав, разворовав, завалив, развалив и пропив, партгосаппарат и иже с ним поставили вне закона Великую Октябрьскую социалистическую революцию и армию, созданную для защиты ее идеалов.
Затерявшись в созданном ими хаосе, переложив вину за распад тысячелетнего Отечества со своих плеч на Великий Октябрь, лишили Родину права на целый период ее истории.
Так. Между прочим. Ни за что не отвечая и не неся ответственности. Натешившись, бросили «Великую и Неделимую», как случайную публичную девку. От имени и по поручению... Но только не моего.
Эта книга — протест против любого беззакония и любой диктатуры от моего имени, и для меня.
Для сведения всех сволочей на любом уровне власти, прихлебал, прилипал и хапуг партгосаппарата, партийных оборотней, фашиствующих националистов, радикалов от демократии, дармоедов от социализма и прочей человеческой нечести. Под знаменами каких бы демократий и свобод они ни ходили, какими бы лозунгами ни прикрывались, в каких бы парламентах ни сидели, в какие бы одежды ни рядились, какие бы матери их ни родили, — Октябрь моего Отечества, провозгласивший конечной своей целью социальную и расовую справедливость, — в Законе!
Как в Законе лейтенант Шмидт и капитан 3-го ранга Саблин, отдавшие за эти идеалы свои жизни. Как в Законе матросы с «Потемкина» и «Очакова», «Памяти Азова» и «Паллады», «Авроры» и «Сторожевого».
Как в Законе кондуктор Частник, присягавший Родине и народу.
«Утро 5 марта 1906 года.
Письмо черноморским матросам перед казнью.
Я и другие товарищи с “Очакова” приговорены к смертной казни. Сегодня или завтра нас расстреляют.
Накануне смерти я хочу сказать вам несколько слов. Грядущей смерти не страшусь: умереть за правду легко. Но меня мучит одна мысль, что некоторые из вас сделались убийцами своих же товарищей, боровшихся за лучшую долю нижних чинов армии и флота и за благо Родины. Люди эти пролили невинную кровь мучеников — борцов за свободу измученного русского народа. Я был свидетелем страданий и гибели этих людей. Там была страшная картина, не поддающаяся описанию, там были стоны, крики, плач нечеловеческий, и всю эту кровавую расправу делали свои же товарищи…
Они приняли на себя роль палачей, убили четыреста жизней чистых и бескорыстных борцов за освобождение от крепостничества русского народа. Им этого не простит ни Бог, ни русский народ, ни весь мир!
Горький плач матерей, жен и детей-сирот, оставшихся у убитых на “Очакове” товарищей, не даст им покоя во всю жизнь.
Я и не удивляюсь, если подобные поступки делают люди, власть имущие. Они искалечены душой, эгоисты, у них нет правды, они сами только хотят жить. Но вам, людям того же народа, во имя которого идет великая борьба, так поступать нельзя. Народ просит свободы и хлеба, а вы будете давать ему пули в сердце! Это непростительное братоубийство...
Товарищи! Передо мной стоит смерть, и завтра меня не станет, но говорю вам, что всякий начальник, приказывающий стрелять в людей, которые требуют лучшей доли русскому народу, сам является изменником Родины.
Подумайте, ведь русские люди, кроме сильных мира сего, чиновников, офицеров, капиталистов и помещиков, требуют лучшей доли! Значит, выходит, что все русские люди — изменники, кроме этой бесчестной кучки эгоистов? Нет, это наглая ложь начальников, чтобы защитить свое личное благополучие. Кто же тогда Родина? Неужели эта кучка людей? Нет и нет!!!
110 миллионов людей, вся русская земля и ее сокровища — вот что называется Родиной.
И ни один честный офицер или вообще начальник не станет теперь поддерживать правительство, так как оно из-за своей личной выгоды залило кровью русскую землю и приводит нашу страну к явной гибели...
Еще бы писал, но уже сказано готовиться к казни.
Мой предсмертный совет вам, дорогие сослуживцы, помогите несчастному русскому народу добыть лучшую долю!!!
Не будьте на будущее время братоубийцами — и вы утрете слезы миллионам русских матерей и сирот.
Шлю вам всем свой искренний последний привет.
Прощайте навеки!
Кондуктор Частник.
Шлют свой прощальный привет Гладков и Антоненко».
В жизни многое можно понять, что-то принять, что-то отринуть.
Но есть одно, и «этого не простит ни Бог, ни русский народ, ни весь мир».
Об этом сказал кондуктор Сергей Петрович Частник.
Живет в доме Николая Саблина соседка. Простая, тихая, скромная женщина. Молчащая постоянно с тех пор, как вернулся из Афганистана в запаянном, так и не вскрытом, гробу ее единственный сын.
Однажды, встретив Николая Михайловича, она вдруг сказала утвердительно:
— Если бы у Валерия тогда что-нибудь получилось, то Афганистана бы не было, а Сережа остался жив.
И снова непроницаемо молча пошла дальше своей дорогой.
Николай, потрясенный, долго смотрел ей вслед.
Это даже не правда.
Высшая истина.
В процессе расследования я искал прежде всего участников событий, потом — очевидцев, потом — свидетелей.
Ради одной беседы, встречи, уточнения самой незначительной детали или факта, сопричастности к «делу» готов был ехать на край света.
Искали и меня. Но чаще это были участники и свидетели стороны, учинившей «правый» суд.
Лина Петровна Осечкина нашла меня сама. Сложно. Через посредников. Скорее — нашлась сама.
Я подметил уже давно, что люди, оказывающие бескорыстную помощь, очень скромные. Они предлагают свои услуги как-то ненавязчиво и стесняясь, как будто боясь этим кого-то раздосадовать.
Лина Петровна — вдова капитана 1-го ранга. Муж погиб пять лет назад. В 1975—1976 годах они с мужем жили в Балтийске. Муж служил на крейсере «Октябрьская революция», Лина Петровна работала в библиотеке при политотделе бригады балтийских кораблей.
— Лина Петровна, вы были дружны с семьей Саблиных?
— Нет. Я знала Нину Михайловну так, как все друг друга знают на военной базе. Балтийск, где служили наши мужья, расположен более чем компактно. Все на виду. Моя работа в библиотеке позволяла мне знать довольно широкий круг людей. И в первую очередь людей, занимавшихся политико-воспитательной работой.
— Библиотека в то время была хорошо укомплектована?
— Библиотека была отличная. Учтите, что библиотека подобного типа — место совершенно особенное. Это не просто городская или какая-либо другая библиотека, куда заходят от случая к случаю и все время разные люди. Библиотека в Балтийске — это и прекрасное хранилище книг, и место проведения политзанятий, и место проведения конференций, семинаров, лекций для семей военнослужащих. Видное место занимала работа по комплектации судовых библиотек. Перед каждым походом библиотеки кораблей укомплектовывались заново. При этом литературой не только художественной, но и политической, специальной, учебной и технической. Как правило, это входило в обязанности замполитов.
Иногда присылали за литературой перед отходом вахтенных матросов, иногда замполиты приходили вместе с ними. Саблин приходил всегда сам. Книге он выделял в жизни совершенно особое место.
— Лина Петровна, Вы хорошо помните Валерия Михайловича? Каким он был?
— Валерий Михайлович был всегда на виду. Если сказать, что он был самый активный читатель библиотеки, это значит ничего не сказать. Его кругозор и эрудиция были исключительными. Библиотека для него была тесна. Поэтому по его специальным заявкам я заказывала литературу по межбиблиотечному абонементу.
 |
— Какую литературу он предпочитал?
— Читал обязательно все новинки художественной литературы. Но основной его интерес — литература историческая и социально-политическая.
— Какое впечатление Саблин производил на окружающих?
— Собран. В высшей степени интеллигентен. Корректен. Вежлив. И очень коммуникабелен. А если проще — очень душевный был человек. Матросы липли к нему, как пчелы на мед. Если он видел, что навстречу ему идет хмурый или понурый матрос, он обязательно останавливался и спрашивал: «Что на душе, сынок? Пойдем. Поговорим». И об этом все знали. Матроса его очень любили. Я никогда, ни до, ни после, не встречала таких отношений между замполитом и рядовым составом.
Очень часто он приходил с сыном. Сына Мишей зовут. Сын был постоянно при нем и на судне.
— Лина Петровна, что Вы помните по «делу» «Сторожевого»?
— Так судьбе было угодно, что в силу моей работе я была последней из невоеннослужащих, кто его видел перед походом. Накануне он в библиотеке читал лекцию матросам о восстании на броненосце «Потемкин». Читал, как всегда, блестяще. Народу было много. Пришли послушать семьи военнослужащих, с детьми. На его лекции всегда приходило много людей. Он это знал. Очень ценил аудиторию. Его лекции превращались в продолжительные беседы по всем вопросам. Если сейчас кто-нибудь скажет вам, что не помнит Саблина, не верьте. Этот человек лжет.
После лекции он с ребятами нагрузился литературой и они быстро пошли на корабль.
— А потом?
— Потом БПК «Сторожевой» не сразу появился «дома».
— Вы видели корабль, когда он вернулся?
— Да. В Балтийске нельзя не видеть. Стоял под окнами. Мы ходили его смотреть. Поначалу пускали. Были хорошо видны следы от пуль, царапины. Потом спохватились и запретили появляться даже рядом около него. Вообще было очень неспокойно. Ходили разные разговоры. Опасаясь волнений, «Сторожевой» быстро отправили на Дальний Восток. С глаз долой подальше.
— А как поступили с теми, кто «волновался»?
— Собрали общее партийное собрание.
— Сразу?
— Нет. Когда подготовились и сами отошли от шокового состояния. Господи, что только на этом собрании ни говорили... И какой только грязи ни лили. И о Швецию! И какая-то шведка.
— А что ей вменяли в вину?
— Я помню все, но пересказывать не буду. На этом собрании была только ложь и больше ничего. Ложь, клевета, хула, фальсификация.
И вот теперь представьте, как жила, ходила по единственному проспекту городка, заходила в одни и те же магазины эта женщина. Ни один человек с ней не здоровался.
Пенсии ни ей, ни сыну назначено не было. В этом основании «заслуга» начальника политотдела.
Потом ей «дали» квартиру в Калининграде. Думаю, что это везде зафиксировано как помощь.
— Ее просто выслали.
— Да. Мебель никто у нее не купил. Как она уехала, когда — никто не знает. Я писала о несправедливости к этой семье. Но у нас так поставлено дело, что ответ тебе на жалобу даст лицо, на которое ты жалуешься. Так оно и получилось. Результат — половина Балтийска со мной перестала здороваться.
— Так вы тоже пострадавшая по делу Саблина?
— Что вы, что вы. Я всю жизнь страдаю из-за своего видения правды. Она и привела, а вернее, свела меня с вами. Странно, ведь вы по возрасту мне сын, а я с вами сужу свое поколение... Не знаю, будет ли из этого прок.
— С одной стороны, Лина Петровна, моему поколению не очень, конечно, повезло с наследством. Но Родину не выбирают, ее получают один раз и навсегда при рождении такой, какой ее сделали жившие до.
— Я согласна с вами, Андрей. Поэтому, чтобы вы и ваше поколение не думали о нас огульно плохо, я решила с вами встретиться и рассказать о Валерии Михайловиче Саблине. Он был хороший человек. Не верьте, когда говорят о нем плохо. Это все политотдельские штучки.
— А у вас не спрашивали в политотделе про Саблина?
— Думаю, что они знали его так, как я, и таким, каким знала его я. Остальное — плод их буйной фантазии. И только. От боязни пострадать и что-то потерять из-за этого.
Я выбрала из картотеки читательский билет Валерия Михайловича и унесла домой.
— Зачем? Не хотели, чтобы кто-то знал, что он читал?
— Не только это. Это пришло потом. А первично было желание уберечь семью от уплаты за несданные книги.
— Не по уставу, Лина Петровна, вы поступили...
— Может быть. Но все эти годы я считала, что поступила правильно. Ведь я больше ничем не могла помочь Нине Михайловне и Мише.
— Спасибо, Лина Петровна.
— Не надо. Грех принимать благодарность за то, что ты обязан сделать.
Я приехал раньше условленного времени на пять минут. Он пришел раньше на три. В разномастной толпе сразу вычислил меня, не останавливаясь ни на секунду для сомнения, подошел и протянул руку. Без обсуждения и сомнений, сразу приняв решение, повел меня к себе домой, заботливо срезая углы и сокращая путь, расспрашивая и рассказывая как-то необъяснимо естественно и ненавязчиво.
Первое впечатление бывает иногда и самым сильным, и самым верным. Разумеется, многое в человеке открывается потом, но при первой встрече в глаза бросается и остается на всю жизнь какая-то деталь, штрих, черточка, мелочь. Я, увидев этого человека, сразу понял главное. Честный и добрый. Остальное уже становилось недостойным внимания. И все равно часы, проведенные в кругу семьи этого человека, обволакивали теплом и внимательностью во всем, в самых незначительных поступках и словах, житейских мелочах и подробностях бытия.
Хозяин квартиры, устроившийся на своем привычном месте на диване в ожидании разговора, хлопочущая на кухне над обедом жена, успевающая создать для мужа и гостя максимум удобств, вернувшийся из института после занятий сын, тихо и внимательно устроившийся подле отца, книги на полках, картины на стенах, сувениры, любимые безделушки на положенных им в доме местах.
Я сидел в удобном кресле, теплых тапочках, в доме с налаженным бытом, устоявшимся порядком, с текучкой будничных хлопот, со своими надеждами, мечтами и особенностями. И думал о других — таких же обустроенных семейных очагах, где при имени Саблина наступали мгновенное остекленение, оцепенение и лавой выбрасываемое бешенство злобы... Отрекшиеся всегда злы. Злоба эта похожа на танк, волчком крутящийся над окопчиком с сердцем.
Внутренне подспудно чувствовал, что здесь так не будет. Но всем, упомянутым в этой книге, было предоставлено право самим выбирать, какими войти в нее, и надо ли это делать... Потому что при невозможности у нас выбора — как прожить, все-таки никому не удалось отнять возможности — кем прожить.
Мужчина, сидящий передо мной на диване, ответил о Саблине сразу, не взвешивая, не задумываясь и не оставляя даже интонацией голоса намека на возможность переосмысления или отступления: «Память о нем для меня свята. Дружба с этим человеком — лучшее, что было в моей жизни».
Жена, разливая кофе, молча кивнула головой.
 |
Анатолий Петрович Михалкин. Служил в самом конце 50-х годов на Балтике. С курсантом Валерием Саблиным познакомился во время похода на эсминце «Неустрашимый», где проходила его служба, а у Валерия — практика. Первое знакомство состоялось во время игры в волейбол. После вахты встретились, чтобы полакомиться из банки сгущенным молоком. Первая общность интересов — любовь к живописи. Мелочи, мелочи... С годами что-то забылось, а другое вдруг неожиданно приобрело значение и стало стержнем понимания прошедшей жизни.
Михалкин окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева. Защитился. Работал по специальности. Работал увлеченно и много. Работой дорожил.
Семья Михалкиных со своей гостеприимной московской квартирой была на перепутье судеб многочисленных друзей и знакомых, которые постоянно то приезжали, то уезжали, то просили что-либо купить или переслать. На всех хватало времени, для всех хватало места.
Саблины в семье Михалкиных были друзьями на правах родных. Семьи особенно сблизились в период учебы В.М. Саблина в Москве в военно-политической академии. Совместные встречи Нового года, вылазки на природу в Коломенское, встречи в Горьком — в семье отца и матери Валерия Михайловича, поиски маленького телескопа для подарка Мише, начавшему изучать астрономию...
Михалкины продолжали вспоминать и щедро дарить эти воспоминания незнакомому человеку, как бы призывая увидеть убиенного друга таким, каким он был и каким он вошел в их жизнь, оставшись там навсегда.
Улыбка, искрящийся особый смех Валерия Саблина. Как нежно и трогательно, восхищаясь, заботясь и боготворя, любил он свою Нину, как учил Мишу плавать.
— Уговор у них был такой, — вытер ладонью мокрое лицо, — марш из воды. Сыну моряка волны бояться не следовало.
— Валерий очень любил лес, а в лесу березы…
Красив и обаятелен, но без малейшего налета самолюбования... В компании видел не себя, а окружающих... Однажды на праздничном вечере, где просто не положено хмуриться и скучать, Саблин заметил женщину. Она была, может быть, и не столь уж некрасива, и одета отнюдь не хуже остальных, но из той непостижимо грустной и в общем-то немалочисленной категории, отмеченной горькой печатью человеческого одиночества. На всех вечерах веселье, не договариваясь ни с кем, отгораживает таких одиноких стеклянной стеной, за которой одиночеству уже просто невыносимо, когда оно смиряется со всем, чтобы как-то жить дальше. Короче, она была из вечно неприглашаемых на танец.
А Саблин, только войдя, не только увидел, но и понял все. И в течение всего вечера был рыцарски внимателен к этой женщине, танцевал только с ней, шутил только для нее и поддерживал разговоры, в которых она принимала участие. Марина Михалкина назвала это сотворением маленького чуда, превратившего тоску отчужденности в праздник человеческой доброты. Много лет спустя эта женщина скажет: «В тот вечер я была счастлива. Первый раз в жизни. И последний».
 |
...Михалкины и Саблины отдыхали на пляже. Валерий дремал на солнышке. Анатолий решил поиграть в волейбол. Было жарко. Очки запотели. Мокрый мяч слился с песком. Отыскивая его руками, Михалкин задерживал нетерпеливых игроков. И вдруг раздосадованный неловкостью партнера, не обремененный мыслями верзила ловко выбил из-под рук Михалкина мяч, послав его в божий свет как в копеечку. Анатолий еще и не понял толком, что произошло, а между ним и хулиганом уже стоял покрасневший от возмущения, молниеносно сорвавшийся с места Валерий. «Ну, в чем дело?» — мужик был явно не из пугливых. Да и ростом выше Саблина. «Принесите мяч! И извинитесь!» Что прочитал в глазах Саблина «добрый молодец» — трудно сказать. Неожиданно для всех наклонился, собрал свою одежду, молча направился в сторону мяча, молча принес его и, положив около Михалкина, молча ушел с пляжа. Вздохнувшая с облегчением компания, притихшая в ожидании скандала, быстро забыла о случившемся. Валерий до вечера промолчал. Любая несправедливость действовала на него угнетающе.
— Он был душой любой компании, но никогда не был рубахой-парнем...
И опять воспоминания, воспоминания. Опять в комнатах этой московской квартиры смеется, говорит, спорит Валерий Саблин... Как тогда, совсем недавно. Вроде бы вышел на время и сейчас вернется, чтобы продолжить начатый разговор.
Валерий Михайлович и Анатолий Петрович любили длинные вечера проводить вместе. Саблин часто говорил другу о тезисах своих выступлений перед рабочими коллективами.
— В период учебы в академии Валерий Михайлович, — вспоминает Михалкин, — попытался применить теорию марксизма-ленинизма на практике на частых встречах с рабочими заводов Москвы. И именно в Москве у него начался кризис. Он почувствовал, вернее, понял, что теория не подкрепляется практикой, а если совсем точно, теория не находит применения на практике. Саблин пытался разобраться в причинах этого. Происходит ли это из-за ошибочности в теоретических разработках учения или из-за неквалифицированного обращения с самим учением. Ибо превращение богатств учения о социальной и расовой справедливости в неприкосновенные догмы, как то: «Его величество рабочий класс», «Авангардная роль народных масс» и т.п., — не только не соответствовало истинному положению вещей, но на фоне всеобщего бесправия, беззакония, попрания прав, низкой культуры, всеобщего пьянства, бьющего в глаза неравенства, жирения новой прослойки советской буржуазии под бесстыжими лозунгами всеобщего благоденствия было настолько явным и кощунственным, что не могло со временем не вызвать возмущения этих самых народных масс. И Саблин предполагал, что в этом случае административно правящая страной верхушка, спрятавшая от собственного народа идеи социализма, не применившая и извратившая их на практике, отдаст для своего спасения на растерзание толпе само учение. В качестве самого доступного примера он приводил случай с общей знакомой, у которой дочь семь раз поступала в институт и не поступила. Знакомая кляла на чем свет стоит преподавателей, принимавших вступительные экзамены, обстоятельства, погоду и просто рок невезения. Саблин, выслушав, ее, сказал: «Ваша дочь никогда не поступит в высшее учебное заведение, так как у нее нет элементарных знаний. Причина — неправильная система образования в стране». Знакомая обиделась. Не на систему. На Саблина.
Многие сокурсники Саблина, окончившие вместе с ним училище им. Фрунзе, бредившие с детства морем, были отправлены без их согласия для прохождения службы в другие рода войск. Сыновей военачальников эта участь не постигла. Когда Саблин сказал об этом в стенах Академии им. В.И. Ленина, многие слушатели исключили его из списка своих друзей.
Круг знакомых у Саблина был большой. Круг друзей с годами сужался.
Саблин с отличием окончил академию.
Пришло время прощаться. В октябре москвичи получили от друга первое письмо с нового места службы.
«Михалкиным пламенный привет с берегов Балтики седой!
Начну все сначала.
Прибыл я в Балтийск, оставив Нину и Мишу на даче под Ленинградом. Первый сюрприз радостный — пришел контейнер, ждет в Калининграде. Второй — ошеломляющий. Отдел кадров переиграл назначение и направляет меня на корабль такого же проекта на прорыв, так как там зама снимают. Сутки упирался ногами, руками и головой, но в ВС это бесполезно. Больно уж не хотелось служить в заводи, опять грозит это неустроенностью быта для семьи. Мне уже стыдно перед Ниной и Мишей — они столько лет из-за меня «цыгане». Приняли сообща решение и на этот раз. Решили, что до моего перехода в Балтийск Нина с Мишей поживут в Ленинграде. Но в Ленинграде ей в прописке отказали. У родной-то мамы! Нина, а с ней, конечно, и Миша ринулись за мной как семья декабристов. Встретил я их цветами и известием, что комнаты нам никакой не дают. Поселились в гостинице. Миша из нее в школу пошел. Вещи в контейнере простояли на товарной станции 20 дней. Некуда было разгружать. Ну а когда штраф за простой стал дороже вещей, разрешили выгрузить их временно в служебное помещение.
Еще раз удивился оптимизму и приспособляемости Нины Михайловны. Не спеша, но быстро наладила домашний очаг, и Миша без особых трудностей включился в учебу. В школу ходит сам. Плохо, что во вторую смену, но они с Ниной выработали режим, и пока все хорошо.
Получил комнату на 5-м этаже, 16 кв. м., трое соседей. Ванны нет. Воды горячей нет. Холодная бывает с перерывами.
Часть вещей мы не стали распаковывать, так как через два-три месяца снова в путь. Это уже будет 15-я квартира за 13 лет совместной жизни.
Теперь о службе.
14 октября подняли ВМ флаг. На днях пойдем в море. Корабль очень хороший. Имя “Сторожевой”.
Личный состав хороший. Офицеры молодые, старательные. С командиром нашли общий язык. Вместе учились в училище, но он на 2 года старше и по возрасту, и по выпуску. Уже втянулся в корабельный режим, а сначала после академической вольницы было тяжеловато. Бывают, конечно, и трудности, и сложности, ну, это как всегда. Очень хорошо получилась пленка диапозитивной цветная — Архангельское. Приедете к нам в гости — покажем.
К вам миллион вопросов... Пишите на корабль или на временный калининградский адрес…
Ждем писем. Валерий, Нина.
21.10.73 года».
Пришло письмо после похода на Кубу.
«Здравствуйте, друзья!
С чего начать письмо, первое после похода? Начну с того, кто сегодня День химиков, и мы от всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником.
Я прибыл в Балтийск 1 мая в 16:00. Встречали хорошо. Пришли мы из Североморска. Это нас из тропиков в снега Заполярья носило. На Севере нас здорово потрепало. Я ликовал — вот он, Север, каков! В Североморске было очень много встреч, да и просто повидать родные места было не менее интересно, чем Кубу. О Кубе и походе впечатления при встрече. Их много. К 9 Маю мне и командиру вручили недавно учрежденный орден “За службу Родине”.
Миша за это время заметно подрос и возмужал. Нина все такая же и даже чуть помолодела.
Четыре месяца не был дома. Дали отдохнуть три дня и снова за работу... Дела, дела... Как все-таки в море спокойно без этой подчас никому не нужной служебной суеты.
 |
Воспоминания о Кубе и походе, как о чем-то очень далеком, как о длинном лете круглый год.
Миша закончил учебный год. Молодец, на наш взгляд, т.к. в этом году перешел на систему самопроверки, т.е. без вмешательства Нины. Сразу убили двух зайцев: у Нины освободилось время, а у Миши появилась личная ответственность за содеянное, т.е. все четверки кровные.
Планы на лето пока на схеме. Не подкреплены материально.
Как у вас планируется? Сроки и место? Как настроение?
Спасибо за помощь моим родителям с семенами.
Пишите. Ждем. Целуем. Валерий, Нина, Миша, 25 мая 1975 года».
Приняв решение всей своей жизни, Саблин встретился с другом.
В этот день он не остался ночевать. Спешил. Михалкины пошли его провожать. Стоя на перроне, Анатолий Петрович тихо сказал жене: «Марина, посмотри внимательно на Валерия. Мне кажется, что мы его видим в последний раз».
Вскоре пришло от Валерия Михайловича письмо-завещание. Такое же, как родителям и жене. Но надо ли говорить, что оно было и немного другим — более мужским, более жестким, более беспощадным к себе и времени.
Анатолий Петрович выполнил приказ друга — сжег письмо после прочтения. И, сев к столу, написал в Балтийск Нине: «Ждем. В Москве останавливаться только у нас». Первым приехал отец Валерия Михайловича Михаил Петрович. На звонок Нины Михайловны к дверям бросились всей семьей. И все запомнили ее глаза. На пороге стояла совершенно другая женщина — растерянная, неподготовленная морально к подобной ситуации, оцепеневшая от страха и отчаяния. Она потерялась и, казалось, полностью доверилась свекру Михаилу Петровичу.
Михаил Петрович метался по однополчанам, мало куда смог пробиться на прием к лицам, располагающим информацией и, как ему тогда казалось, влияющим на исход решения по делу сына.
Однажды, придя позже обычного, он, не снимая шинели, тихо присел на стул, не прикасаясь к спинке и просидел так до ночи.
Никто не осмеливался ничего у него спрашивать. Все сделали вид, что легли спать. Анатолий Петрович молча остановился напротив. Михаил Петрович поднял глаза: «Он мне показал резолюцию красным карандашом: “Расстрелять” и подпись».
Анатолий Петрович все понял, хотел спросить, кто сказал. Зачем он это сделал? Может, для будущих, для нас теперешних? Может, решил доказать свою непричастность к бесправию? А может, просто проиллюстрировал свое и Михаила Петровича бессилие перед государственной машиной и бесполезность предпринимаемых Михаилом Петровичем и семьей Валерия Михайловича всех стараний по спасению отца, сына и мужа.
Анатолий Петрович почувствовал, что надо что-то сказать: «Михаил Петрович, любая резолюция не может заменить и подменить следствие и суд». Сказал и почувствовал, что лжет. Первый раз человеку, которого любил и почитал, как родного отца.
Да и к чему было говорить. Оба знали, что следствие и суд теперь выполнят официальные формальности по оформлению резолюции. Оба знали, что следствие и суд так же бесправны, как и подсудимые.
Мужчины решили ничего не говорить родным и близким. И как это ни парадоксально, где-то в глубине души продолжали надеяться... На что? Этого нельзя объяснить. Они надеялись до первого неожиданно полученного письма родными от Валерия Михайловича из Лефортово.
Трудно передать настроение потрясенного недоуменного счастья у родных и близких. Все расценили это почти как оправдание, как человеческое поощрение, как подмогу официальных инстанций в преодолении тягостного одиночества подследственным до суда праведного... Все. Кроме двух мужчин. Они знали, что переписка из таких мест заключения разрешается только после суда и вынесения приговора. Они поняли, что это все.
Михалкин, завязывая галстук перед зеркалом, попытался прорепетировать:
— Кто вы такой?
— Знакомый.
— Свидание со знакомыми не предусмотрено…
— Кто вы такой?
— Друг. По поручению семьи.
— Поручения и просьбы до окончания следствия не принимаем...
Никакие варианты не понадобились. Его не пропустили ни к кому, ни в какой кабинет. С ним никто не разговаривал. Его никто ни о чем не спрашивал. Его никто не выслушивал. Хотя Анатолий Петрович не интересовать следствие не мог.
Первый раз с ним несколько часов беседовали в 1-м отделе научно-исследовательского института, где он тогда работал.
— Я был выкручен и выжат как лимон. Выйдя из кабинета, представил, каково сейчас проходится Валерию… Потом меня забыли на целых три года. Мы с женой принесли обратно в дом письма и фотографии Саблина. И вдруг утром, около одиннадцати, меня пригласили в кабинет первого отдела НИИ. Представитель КГБ сухо предупредил-констатировал, что моей научной работой интересуется западная разведка. Я понял. Запушена машина по печатанию «врагов народа» из друзей, свидетелей, очевидцев. Утром следующего дня я положил на стол директора института заявление об увольнении по собственному желанию. Он ни о чем меня не спросил.
С наукой, работой по специальности было покончено, с благополучием семьи — тоже.
Был выход? Да. Но не для меня и моей семьи. Я всегда говорил, говорю и передаю по наследству моему сыну: «Я горд и счастлив, что прожил жизнь так, что имею право называть себя другом Валерия Михайловича Саблина. А что я не доделал в науке, сделает мой сын. Я уверен».
— Анатолий Петрович, как и когда вы узнали о приговоре суда?
— 20 марта 1977 года пришло письмо Нины Михайловны.
«Здравствуйте, дорогие.
2 марта я получила телеграмму из Горького о том, что они получили свидетельство о смерти Валерия, последовавшей 3 августа 1976 года. Само свидетельство оформлено 22 февраля. Мне же обо всем сообщили 10 марта. Даже не сказали, где он похоронен и как это все произошло. Писем нам от Валерия тоже не передали.
Ну, что вы скажете на все это? Как это все назвать? Мише, конечно, я ничего не сказала, пусть подрастет немного.
Я не ожидала такого решения, такой неоправданной жестокости от нашего правительства.
Неужели история еще ничему не научила людей?
Вообще все это очень тяжело и невыносимо.
Не хочу верить во все это!
Нина. 20 марта 1977 года».
В письмо было вложено стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова.
...Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой.
… Восстал он против мнений света
Один как прежде... и убит!
...А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки,
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — все молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет...
...Тогда напрасно вы прибегните к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью...
Стихотворение было переписано от руки и озаглавлено: «3 августа 1976 года».
Было за полночь. Все засуетились, стали стелить мне постель в парадной комнате. Я спешил. Я не мог остаться. Я был благодарен этой семье за все, и за самое главное — что они доказали своей жизнью, что есть на земле порядочность, человечность и дружба.
Анатолий Петрович провожал меня до лестницы эскалатора метро. Последние редкие пассажиры устало подремывали на ногах, не в силах уже сбегать вниз, опережая ступени. Сойдя на твердь мраморного пола внизу эскалатора, я оглянулся и посмотрел вверх. Анатолий Петрович поднял руки в прощальном приветствии и прокричал на все заполнившееся эхом пространство: «В Москве останавливаться только у нас!..»
Кстати, за все эти годы Михалкина не навестил никто из общих знакомых его семьи и Саблина.
 |
«Саблина пособник, отбывавший ранее срок за кражу, матрос А. Шеин, приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет». («Красная звезда» от 28 февраля 1990 года.)
Шло время. Книга о «Сторожевом», ставшая всенародной не только по форме, но и по содержанию, подходила к завершению. Не принимал в ней никакого участия только один человек — матрос А. Шеин.
И вдруг среди кипы очередной почты на стол выпал конверт с удивительно ровным и четким почерком. Так мог писать только тот, кто знаком с правилами чертежного или плакатного написания букв.
Пришло письмо от человека, хорошо сознающего значение поступка и возможные последствия.
Стоит ли говорить, что ответ был отправлен в тот же день:
«Здравствуйте, Александр Николаевич, не буду скрывать, что хотел бы с Вами встретиться. Но комитет “Общенародная книга-памятник” положил в основу своей работы участие всех, от участников событий до членов комитета, по принципу добровольности. Оставив Вас один на один с ректоратом университета “врагов народа”, молчаливо и покорно позволив отработать на Вас все ярлыки от “соучастника—уголовника—предателя—изменника Родины—террориста—государственного преступника” до всеобъемлющего пожизненного клейма “враг народа”, никто не вправе приглашать Вас на новые моральные испытания. Только Вы сами можете решить, как, в каком объеме, в какой форме можете принять участие в работе комитета и создании книги “Прямо по курсу — смерть”».
Предложение о встрече пришло по телеграфу, и почти одновременно раздался звонок в дверь:
— Простите. Андрей Майданов здесь живет? Я Александр Шеин.
На пороге стоял высокий молодой красивый мужчина. Ладный. Продуманно, со вкусом одетый. Чужой и холодный до первой улыбки, доверительной и по-девичьи застенчивой.
Его безжалостность к себе коробила и вызывала внутренний протест. Хлестала плетьми фанатов-паломников по никогда не заживающим ранам. Когда он это чувствовал сам, он поднимал голову и повторял одно и то же:
«Мне нечего скрывать...»
Он говорил ночь и день.
Закончив, положил на стол свою исповедь в письменном виде. 27 стандартных листов белой бумаги, исписанных ровным почерком человека, владеющего секретами написания чертежных и плакатных букв...
«Я, Шеин Александр Николаевич, 1955 года рождения, русский, родился в г. Рубцовске Алтайского края. Жена деда была якутка.
Биография моя, как и всех моих сверстников, начинается с “самого счастливого детства” в самой счастливой стране. Тимуровские отряды, пионерская организация, школа... Вначале было, “как учили”. А потом, как и всех, стала раздражать ложь в большом и малом, предписываемая кем-то показуха, обязанность быть похожими на всех, где даже так называемому “трудному возрасту” был резко очерчен круг обитания: улица, подъезды, подворотни, милиция. Самой лицемерной ступенью в этот период жизни считаю школу. В десятом классе заявил родителям, что пойду работать. Мы тогда переехали по месту работы отца в город Тольятти. Пошел в вечернюю школу, где формализм, очковтирательство и отсутствие знаний — норма существования. Но тогда об этом говорить тоже было нельзя.
Родители очень переживали за меня. Немного успокоились, когда я пошел на работу. Бригада встретила хорошо, как долгожданного “своего парня”. И бригадир тут же попросил вынести для его “Жигулей” приводной ремень. Несли все. Несли всё. Вынес и я. Не считая это ни геройством, ни преступлением. Выносил для знакомых и приятелей — не для продажи. А потом кто-то попался и показал на еще таких же. Мне присудили как несовершеннолетнему 25 процентов удержания из зарплаты в течение года. Я даже не сразу понял, что это судимость. Она была, правда, быстро снята в связи с призывом в армию.
Служить на флот я напросился сам. Мне тогда казалось, что там все не так, как в обычной будничной жизни. Романтика моря звала. После окончания учебного отряда в городе Кронштадте по распределению попал на БПК “Сторожевой”.
Осенью уходил в запас корабельный художник. Меня, как умеющего рисовать, и еще одного парня из РТС перевели в ленкомнату. Там я ближе узнал замполита корабля капитана 3-го ранга Валерия Михайловича Саблина, в ведении которого находилась эта комната. Он мне нравился, но вначале я к нему относился предвзято плохо как к человеку, исполняющему очень неуважаемую на флоте должность. Уже в учебном отряде я понял, что на флоте такая же ерунда, как и на суше. Такого угодничества и формализма, как на службе, я нигде не встречал. И никак не мог понять на политзанятиях, о каком гражданском долге говорится. Я поражаюсь терпению Саблина. Другой бы на его месте на мне карьеру сделал — подвел бы “уголовника” к “политике” и блестяще бы зарекомендовал себя перед начальством борцом за систему. А он принес мне и заставил читать сначала “Манифест Коммунистической партии”, “Государство и революция” В.И. Ленина, а затем Вернадского.
Саблин был открыт для любого разговора на любую тему. После разговора с ним было какое-то очищение и просветление, от всего, что внутренне угнетало. Очень импонировала в нем черта говорить с собеседником на равных, без тени превосходства. Но панибратства он не допускал.
А разговоров на корабле было много. На уровне своих знаний мы говорили обо всем. Сказать, что кто-то из нас всерьез подумывал о каких-то мерах или шагах, или малейшей попытке открытого выступления с критикой существующего строя, было бы неправдой. Все наше недовольство и возмущение сводилось к разговорам. Была еще надежда, что где-то все иначе, по-настоящему, как об этом писалось и показывалось, с экрана. Слыхали, что есть какие-то диссиденты, предавшиеся западным спецслужбам. Но все это где-то, и никого это не касалось... И потом, все отлично знали, что можно “пострадать”. Чувство страха было каким-то врожденным, естественным состоянием. До сих пор не могу понять, на какой ступени роста человека это в него вбивается.
Я не могу точно сказать, были ли у Саблина единомышленники, готовые к открытой борьбе, к открытому выступлению. 5 ноября на этот вопрос он ответил положительно. Вспоминаю случай. Как-то мы вместе сошли на берег. Неожиданно он попросил меня подождать его и, пояснив, что ему нужно повидать старого товарища на корабле, пришедшего с Северного флота, быстро пошел по причалу. Перед трапом корабля остановился и резко обернулся, как бы проверяя, не следит ли кто за ним. Не знаю, но меня тогда это очень удивило.
Об использовании корабля в качестве политической трибуны, свободной независимой территории я, видимо, узнал на корабле одним из первых. И хотя Саблин просил меня об этом ни с кем не говорить, я посвятил в это своих самых близких четверых друзей. Это даст суду возможность обвинить меня в создании заговора. Заговора не было. Был разговор с друзьями.
Мы с Мишей Буровым несколько раз прослушивали в ленкомнате речь Валерия Михайловича Саблина. Начиналась она со слов: “Всем! Всем! Всем! Мы обращаемся к тем советским гражданам, кому не безразлична судьба своей Родины, судьба своего народа. На БПК «Сторожевой» поднято знамя новой революции. Государственный аппарат заражен семейственностью, взяточничеством, и никакого дальнейшего пути развития общества не произойдет, только больше будет усиливаться социальное неравенство”...
Я не берусь полностью воспроизвести эту речь, могу испортить... Ее надо найти. Потребовать от людей, ее спрятавших, вернуть тем, кому она предназначалась.
Я свидетельствую: Валерий Михайлович Саблин поручил мне бобины с записью этой речи отправить по почте бандеролью 8 ноября. Почты в праздничные дни были закрыты. Время поджимало. Я попросил девчат, пришедших к друзьям-курсантам на СКР, отправить бандероль по указанному адресу. Они просьбу выполнили. Но их потом тоже нашли и вызывали на допрос.
Саблин не думал ни от кого скрывать свои намерения. Он на всех и на все шел с открытым лицом, и только через свои убеждения. Может, в этом и была его ошибка. Любое мероприятие надо хорошо и тщательно готовить. А он объяснил свою позицию так: “Я никогда никого ни во что не втягивал. Я один за все в ответе”. Он признавал только один вид оружия и защиты одновременно — правду. Отдавая мне перед ужином 8 ноября свой незаряженный пистолет, он сказал слова Чернышевского, что человеку, ставшему на путь революционной борьбы, приходится находиться иногда в таком положении, в котором просто честный человек не оказывается. И еще слова Авраама Линкольна о том, что нельзя все время обманывать свой народ. Я не помню, конечно, точно эти слова. Но они были так к месту, что запомнились именно в таком смысле на всю жизнь.
Потом Саблин смело и откровенно выступил перед личным составом. То были минуты наивысшего подъема. Каждый хотел что-то сделать. Выставлялись посты.
Мы поднялись. Мы восстали.
Но через шесть часов мы поняли, что нас уничтожат. Свои. Этот вариант не мог высчитать никто.
Я не знаю, какая внутренняя борьба была у летчиков, заходящих на свой безоружный корабль по трое. Сейчас есть доказательства, что многие отказывались бомбить корабль. Некоторые подчинились приказу только после долгой открытой перебранки с управлением полета друг с другом. А вот разговор с пограничными катерами я слыхал. Командир одного из них по громкоговорящей связи приказал остановиться — в противном случае по БПК будет открыт огонь. Саблин вступил в переговоры лично, разъясняя еще и еще раз цель похода в Ленинград, — добиться открытого выступления по радио и телевидению перед советским народом с критикой в адрес Политбюро и госаппарата. Команда решилась на это, не имея других путей борьбы. Рано или поздно к открытому выступлению придут и другие. Но кто-то должен начинать. Не знаю, как отнесся к поступку “Сторожевого” командир пограничного катера, но приказа к применению оружия не отдал.
Загнанных, как затравленных волков, нас захватили.
И дальше закрутился сценарий, авторами которого были службы того государства, которое не имело ничего общего ни с замыслами Ленина, ни с замыслами настоящих революционеров, ни с целями и задачами Октябрьской революции в России.
Дальше — страх, стыд, срам и полная беспомощность маленьких людей в руках профессионалов. Переиграть всех нас им никакого труда не составляло.
Уже искренне поверив в свой бред, комсомольский вожак судна увидел в руках у кого-то пистолет, направленный на него. Кому-то померещился под бушлатом автомат. Ничего этого не было.
Как не было и замысла уйти в Швецию.
Вопросы о курсе движения корабля, о координатах его нахождения, в том числе и от Швеции, задавались.
Но тогда нам ставилось в вину самое страшное преступление перед системой — восстание против нее. За это нас и судили. За это мне дали 8 лет, а Саблина приговорили к расстрелу.
Попытка сегодняшнего, перекрасившегося под “перестройку”, партгосаппарата и судебных его органов переместить акценты в сторону морского терроризма не может никого обмануть. Ни меня, отсидевшего 8 лет, из них пять с половиной (а не два года, как утверждает A. Борискин) в самой “страшной” тюрьме КГБ — Лефортово, ни самых доверчивых не посвященных в это дело людей.
Чтобы изменить строй в СССР, не идут за этим в Швецию.
Международный резонанс, мне кажется, как фактор не исключался. И если бы международное мнение было бы на нашей стороне, это бы воспринялось нами естественно и с благодарностью.
Саблин подчеркивал, что достижению понимания и поддержки его программы могут способствовать только бескровные методы и действия. Программа должна быть и организатором, и борцом. Он всегда был и до конца остался бойцом идеологического фронта, где я не встречал ему равных.
Время было им выбрано и использовано для открытого выступления еще и потому, что это был уникальный случай, когда военный корабль в боевом строю был безоружным.
Меня сняли со “Сторожевого” примерно через сорок минут после того, как на корабле появились люди в штатском. Отвезли в Рижскую тюрьму. Работать со мной начал следователь Савинов Ю.С. Спать не давали.
В самолет, увозивший меня в Москву, меня заводили спиной.
Следователем в Москве был Харитонов Эдуард Анатольевич.
От предъявленных обвинений я долго и упорно отказывался.
Тогда подключился следователь О.А. Добровольский: “Ну, раз не получилось, что сейчас-то упорствовать”. Добровольский вел дело Валерия Михайловича. И, как я сейчас понимаю, корректировал и “направлял” остальные дела.
Я писал наивные письма с просьбой разобраться и не винить во всем Саблина, а винить окружавшую жизнь. Читал ли их кто, не знаю.
Я ничего не имею против моего следователя и сегодня. Все мы винтики в одном государственном механизме. Если бы суд был открытым, все бы вели себя по-другому: и следователи, и подсудимые, и защитники, и судьи. А тогда ни у кого не было возможности что-то изменить.
Я продолжал не признавать выдвинутых против меня обвинений. Тогда, сменяя друг друга, были запущены в действие следующие приемы: “Из-за тебя страдают другие. Признай себя виновным, все остальные будут тут же освобождены”. Новый заход, тот же вариант, но с другой стороны: “Все сознались. Все оправданы. По приказу министра обороны уволены в запас. Один ты во вред себе упорствуешь”. И, наконец, “козырная шестерка”: “Саблин признал свою вину во всем”.
Он действительно признал себя виновным в части нарушения присяги и воинского устава.
Мне “документально” это демонстрировали так: положив на лист с допросом Саблина небрежно “случайные” документы, тыкали в определенное место: “Вот, смотри. Даже он во всем сознался. Один ты, глупый, упорствуешь”.
Я не имел никакой связи ни с кем и с внешним миром тоже. Переписку с родными мне разрешили только после окончания следствия и вынесения приговора. Это условие там выдерживается строго и неукоснительно. Однажды во время прогулки по внутреннему дворику тюрьмы я увидел на стене крохотную надпись: “Сторожевой”. Почерк был саблинский. Я понял это как поддержку. На следующий день надпись исчезла.
Противостоять было непросто.
Переиграть меня было несложно.
Круг вопросов сужался очень быстро. Основное время отнимали формальности по оформлению документов.
При этом все допросы проводились по отработанной схеме. Например, выдвигалась определенная версия обвинения. Разговор вокруг и около неожиданно для подсудимого обрывался на определенной фразе, на которую мог быть дан единственный утвердительный ответ. И ты, как дурак, говоришь: “Да. Признаю. Виновен”. И тебя обязательно заставляют теперь повторить эту фразу, завернутую в статью закона: “Я признаю себя виновным по статье... УК, в части…». И человек, никогда не державший, вроде меня, в руках законов и кодексов, начинал, как бы непроизвольно, вставлять себя и свои поступки с пеленок в соты уголовных статей, оставляя (чтобы не сказать, “заставляя”) пунктуальным и добросовестным следователям и судьям констатировать это и юридически правильно оформлять бумаги.
И нет следственных и судебных ошибок, нет предвзятости, подтасовки фактов, ошельмования подсудимого.
Нет виновных, кроме самого виновного.
Самое страшное во всем этом то, что ты плохо понимаешь все происходящее с тобой. И только потом, по прошествии времени или при попытке подать прошение на пересмотр или помилование, получив обратно свою же оплеуху, начинаешь по-иному смотреть и понимать. Но поздно. Капкан защелкнут, и не без собственной помощи. И нет пути назад. И нет никакого выхода.
Но это еще не все.
Самое коварное и жестокое припасено напоследок. Когда все уже тебе “свои”, когда тебя уже не шантажируют, не запугивают, не одергивают. Установлена даже атмосфера какой-то доверительности.
Я помню, не спал несколько ночей от нечаянно оброненной фразы моего следователя: “А все-таки хорошо, что есть люди, способные на такие поступки”.
И тогда, под занавес, вам дружески дается совет (почти по секрету): все выдвигаемое следствием полностью признать. Ибо только это гарантирует спасение. И дальше: “Так поступили все. Все на свободе. Один ты собираешься умереть за идеи, о которых никто никогда не узнает”. И ты подписываешь полное признание своей вины.
А потом оказывается, что это ничего не меняло. Начинается истерика, депрессия — у всех по-разному...
Признание нужно было не подсудимому, а суду, чтобы все списать с себя и ни за что не отвечать в будущем. Установка та же, что и во время следствия. С той разве разницей, что тогда виновным по всем был обвиняемый, а сейчас осуждал себя сам осужденный.
Это делалось и со мной.
Это делалось и с Саблиным.
Именно поэтому, по-моему, политический суд в нашей стране полностью исключил значимость, роль и место последнего слова осужденного. Эта процедура упрощена и в корне изменена. Осужденному предоставляется возможность для “покаянного” выступления или “покаянной” речи.
Красивые “исторические” последние слова на политических процессах, которые мы учили по школьной программе, — не для тюрем КГБ. Да и перед кем там говорить? Там никого не слушают. Там задают вопросы и оформляют документы. Там делают профессионально осужденных под статьи, нужные системе и оправдывающие поступки не осужденного, а системы. Там делают систему.
Только Саблин мог остаться в таких условиях с человеческим лицом.
Он не бил себя в грудь, не клялся прожить оставленную ему жизнь за партию, правительство, не просил дать возможность искупить свою вину.
Он сказал только две фразы.
“Я люблю жизнь. У меня есть семья, сын, которому нужен отец”. Все».
Шеин остановился и надолго замолчал. Я попытался вслух проследить его мысли: «Вероятно, Саблин вложил в эти слова все, что выстрадал и к чему пришел после переосмысления во время пребывания в тюрьме, я лично убежден, что это была черта под всеобщей ложью, отступничеством и предательством.
Саблин сказал свое последнее “прости” без патетики и заклинательного завещания, поняв и на себе испытав, что нас ничем уже не пронять и не поднять.
Он отныне верил только своей семье. Надежда оставалась только на жену и сына. Сына, которого он вырастит сам. Но система, не перекладывая чужих забот на свои плечи, воспитывать сына ему не доверила…»
Шеин, кивнув головой, продолжил: «Это было вершиной игнорирования и системы, и суда, рожденного этой системой. Обо мне Саблин сказал: “Шеин оказался случайным человеком”. Потом, резко побледнев, он пошатнулся. Меня выволокли в соседнее помещение.
Я видел последнее: к Саблину подскочило несколько человек, заломили руки назад, надели наручники, заклеили широким черным пластырем рот. Он пытался вырваться. Рычал, как барс.
Запахло лекарством.
Его тащили вдоль коридора. Я слышал глухие удары.
Потом видел на стенах кровь.
Будь проклят тот день, когда я поставил подпись под признанием своей вины.
Будь прокляты все, кто меня заставил это сделать.
Я отказался от себя. Но я хочу открыто сказать всем, что никогда не жалел о встрече в своей жизни с Валерием Михайловичем Саблиным и мне легче было переносить пять с половиной лет в Лефортово и остальной срок в лагере строгого режима с мыслью, что все-таки есть на земле человеческая порядочность высшей пробы, есть сила воли сильнее вооруженной до зубов системы, есть любовь к жизни сильнее ненависти, злобы и клеветы.
Нина Михайловна, простите за Ваши боль, обиды и унижения.
Спасибо добрым людям за участие и письма.
Мне ничего не надо лично, лишь бы дожить до реабилитации Валерия Михайловича».
Он уехал, как и приехал, в ночь.
Он поехал к старшему брату Валерия Михайловича, потом на «Беларусьфильм». Он поехал «поднимать» людей на борьбу за восстановление честного имени Валерия Михайловича Саблина.
Он ездит уже не один год. И первая публикация о «Сторожевом» была вызвана его открытым письмом к советскому народу.
Он появляется везде без приглашения и предупреждения, крадучись и боясь звонить по телефону.
Он до сих пор находится под надзором и с него взята подписка.
Он опасен.
«Жизнь каждого принадлежит Отечеству», — определил адмирал Нахимов. И пал на суше, заплатив за отстаиваемый Севастополь пробитой вражеским снайпером головой.
Фамилия человека, избравшего для себя адмирала Нахимова жизненным эталоном, — Саблин Валерий Михайлович,
И если бы письмо Саблина в ЦК ВЛКСМ о недостатках в воспитании и образовании курсантов стало предметом обсуждения не в политотделе училища «оступившегося» курсанта, а на уровне Центрального Комитета комсомола и его структур по сути затронутых проблем, наверное, что-то бы и изменилось. И, возможно, не было бы очередной потери и стыдобы для русского народа и отечества. Возможно, так когда-то будет. А тогда... «Проработанный» Саблин написал портрет Нахимова маслом и четко определил ему постоянное место около себя, в своей каюте. Больше он пока ничего не мог сделать. Разве в будущем — пойдя на смертельное дело в полной форме морского офицера.
Заря революции пришла в Россию с моря. Не для того и не за тем, чтобы стать кораблем-музеем. А потому, что это было логическим завершением исторических событий. И искажение их, попытка подменить лозунгами, упростить, замолчать причины (чтобы не было аналогий), переосмыслить под систему — должно было обернуться трагедией. И для тех, кто «против», и для тех, кто «за».
Практически не было года и даже месяца между 1905-м и октябрем 1917-го, когда бы ни восставали моряки военно-морского флота России.
Двенадцать лет — срок взросления поколения. В данном случае — поколения революционеров из лучших граждан страны.
Исходная база? Физически и морально здоровые, грамотные и развитые люди, попав на корабли, не только являли собой спаянные экипажи, но и очень быстро проходили школу социального устройства общества.
Каждый корабль — живая модель государства. Все государственные процессы корабль собирает концентрированно и выпукло, как сильная линза. Зажмуриться невозможно.
Характерно, что все выступления моряков отличались организованностью, ясностью целей и задач, высшей пробы самопожертвованием.
С 14 по 25 июня 1905 года восстал броненосец «Князь Потемкин Таврический», поддержанный броненосцем «Георгий Победоносец» и миноносцем № 267. 17 июня для пленения или потопления «Потемкина» была направлены два отряда кораблей Черноморского флота. Произошел знаменитый «немой бой»: отвергнув предложение о «сдаче», «Потемкин» прошел сквозь строй кораблей. Матросы эскадры отказались стрелять по броненосцу. «Потемкин» остался «непобежденной территорией революции».
В июне все того же, потрясшего страну 1905 гола, восстали матросы флотских экипажей в Либаве, экипаж учебного судна «Прут».
18 октября 1905 года царские власти беспощадно расстреливают демонстрацию в Севастополе, где вместе с рабочими и солдатами гарнизона матросы требовали освободить политических заключенных.
Эстафету флотской солидарности немедленно подхватывает Кронштадт, собравший матросов и солдат на гигантский митинг 23 октября. Еще через три дня Кронштадт поднимается на восстание.
Ноябрь 1905 года. Почти неделю идет восстание в Севастополе: снова «Потемкин», который переименован теперь в «Св. Пантелеймон», кроме того, «Свирепый», «Гридень», «Прут», «Очаков» и его двойник-человек — лейтенант Петр Петрович Шмидт.
«Я знаю, что столб, у которого встану принять смерть, будет водружен на грани разных исторических эпох нашей Родины! Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую... обновленную, счастливую... Россию», — скажет на суде Шмидт.
Во время суда над Шмидтом и его соратниками плакали судьи и конвоиры. Шмидта царь приговорил к повешению, но во всем Севастополе не смогли найти удушителя. Вынужденно заменили петлю расстрелом.
Расстреливали Шмидта с товарищами матросы-новобранцы на острове Березань. В спину расстреливавшим целились солдаты, специально подобранные палачами в генеральских погонах. Мало этого, на расстрел-отряд были в упор наведены орудия канонерки «Терец». Саванов не надевали. Многие матросы опускали винтовки, несколько упали в обморок, офицеры не могли выйти из состояния растерянности. Скомандовавший «Огонь!» лейтенант Михаил Ставраки припал к земле, закрыв лицо руками[1].
Портрет Красного лейтенанта В.М. Саблин написал красками и подарил сыну: «Мише от папы. Будь мужественным. 1974 год».
Эстафету революции мужественно принял Дальний Восток: 10—14 января 1906 года восстание объединило солдат и матросов Сибирского флотского экипажа. Владивосток запомнил матовое золото надписей на бескозырках: «Терек», «Жемчуг», «Бодрый», «Смелый», «Шилка», «Аргунь».
Балтика не разгромлена. Доказательство: 17—20 июля 1906 года восстание солдат и матросов — Свеаборг и Скатуден.
19—20 июля — вторично поднимается неусмиренный Кронштадт.
20 июля — флаг восстания на крейсере «Память Азова».
12 августа 1907 года — учебное судно «Рында» в Ревеле пытается поднять восстание.
Проходит только месяц. Новая вспышка. 15 сентября. На этот раз — «Три святителя», «Кронштадт», «Синоп» и «Ростислав».
17 октября 1907 года — Владивосток продолжает. Восстают миноносцы «Тревожный», «Сердитый», «Скорый».
15 августа 1910 года директор департамента полиции получает спешное донесение, сразу же вызывающее тревогу на правительственном уровне: революционная пропаганда активно ведется на линкорах «Слава» и «Цесаревич», а также на крейсерах «Паллада» (корабле Федора Тюкина — прадеда Валерия Саблина), «Диана», «Рюрик», «Россия» и в минном отряде. Главный центр пропаганды — крейсер «Аврора».
Меняются имена, сменяются экипажи, но желаемого эффекта репрессиями добиться не могут. В 1911 году департамент полиции начинает новое дело «О революционной организации среди матросов учебного судна “Двина”».
В 1912 году должен был восстать Балтийский флот. Агентура полиции ценой напряженнейших усилий упредила его начало, выявив членов организации на 14 кораблях. Это — «Баян», «Паллада», «Адмирал Макаров», «Богатырь», «Громовой», «Император Павел Первый», «Слава», «Андрей Первозванный», «Адмирал Корнилов», «Цесаревич», «Рюрик», «Николаев», опять «Двина» и снова «Аврора».
Террор перемежается с неусыпной слежкой. Официально это именуется «наблюдением за настроением чинов Балтийского военного флота» (соответствующие дела № 238 и № 234 департамента полиции за 1914 год).
1915 год — «возмущение» на «Петропавловске».
19—20 октября 1916 года — линкор «Гангут». Восставшие матросы были схвачены. Для сопровождения отрядили матросов с «Рюрика», но те, несмотря на категорический приказ, отказались конвоировать товарищей с «Гангута». Итог страшен. 21 декабря 1915 года военно-морской суд Кронштадта завершил расправу над «гангутцами»: 2 смерти, 4 каторги по 15 лет, 4 каторги по 14 лет, 10 каторг по 10 лет, 5 восьмилетних каторг, 3 — на четыре года. С «Рюрика» арестовали 42 человека. Суд над ними был завершен в три дня: троих — к казни, троих — на каторгу, 34 человека — дисциплинарный батальон. В последний момент смерть троим «милостиво» заменили на пожизненную каторгу.
9 января 1916 года Балтийский флот совместно с солдатами и рабочими вновь планировал начать восстание. Провокаторская мохнатая паутина задушила порыв.
По каждому флоту, по каждой базе, по каждому экипажу в романовское время составлялись и постоянно велись списки «благонадежности». «Политически неблагонадежные» подлежали немедленному списанию. Число неблагонадежных составляло до половины списочного состава.
Флот пришел в Революцию 1917 года зрелым и не знающим страха. Борцом в гражданином.
«Сторожевой» — не «недоработка» в политико-воспитательной работе, а закономерное продолжение революционных традиций русского военного флота, которые почему-то упорно замалчивались в течение десятилетий, лубочно подменялись в учебниках истории 2—З примерами, выбранными для иллюстрации жестокости царизма, с одной стороны, и сопротивления ему — с другой.
И Саблин — не исключение, а преемственное воплощение лучших качеств офицеров флота Россия, никогда не отделявших себя от участи своего народа. Бесстрашно и самопожертвованно выполнявших свою миссию, поражая цивилизацию, захлебывающуюся в хамстве, крови и коррупции, своим бескорыстием и человечностью.
Поэтому так страшно и противоестественно, что все мы в 1975 году, узнав о «Сторожевом» и о том, что Саблин с товарищами изменили Родине и хотели уйти я Швецию, поверили я эту чудовищную ложь и верим до сих пор, потому что нам об этом сказали сверху, «оттуда». Что не удалось царизму за сотни лет, удалось Сталину и его последователям — низвести народ до всеобщей покорности, смотрящего снизу в рот своим оракулам. Я уверен, что мы только тогда вновь возродимся как великая нация, когда научимся плакать, теряя своих героев.
«Я имею ввиду не жизнь сытого мещанина, а жизнь светлую, честную, которая вызывает искреннюю радость у всех честных людей», — написал капитан 3-го ранга Саблин.
Ему и его экипажу должен быть сооружен памятник.
Думаю, что на суше. Но обязательно у моря. Балтийского. В Риге.
А в кильватере броненосца «Потемкин», с облепленным матросами носом, идут, разрезая мощные волны годов, миноносец № 267, горящий крейсер «Очаков», крейсер «Память Азова», миноносец «Свирепый», миноносец № 270...
И большой противолодочный корабль «Сторожевой».
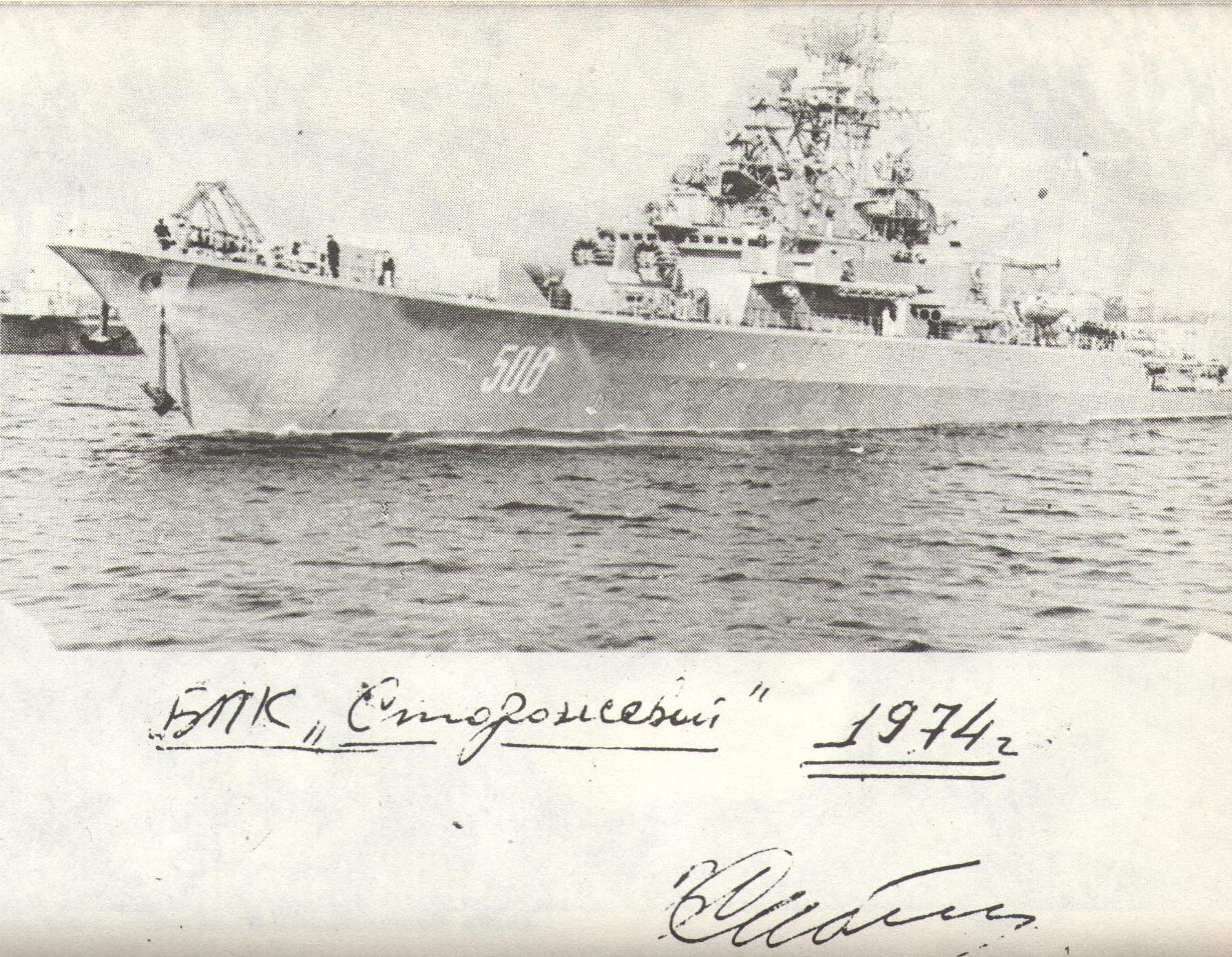 |
Комментарии научного редактора
[1] Отметим, что Михаил Ставраки (к тому моменту успешно вступивший в РКП(б) и работавший смотрителем маяка в Батуме) был в 1922 году опознан и арестован, а в 1923 году приговорен Верховным судом РСФСР к расстрелу. Отягчающим обстоятельством послужил тот факт, что Ставраки расстрелял тяжело больного Шмидта вопреки уставу (по уставу, казнь тяжело больных откладывалась). В 2013 году нынешняя власть в лице Верховного суда России реабилитировала Ставраки, сочтя, что он «выполнял законные на тот момент распоряжения законной на тот момент власти», что еще раз подтверждает классовый характер любой правовой системы в классовом обществе.
Фрагменты из книги: Майданов А.Г. Прямо по курсу — смерть. Рига: Пресс-фирма ЛИТА, 1992.
Комментарии научного редактора: Александр Тарасов.
Андрей Геннадьевич Майданов — советский журналист.