
| Saint-Juste > Рубрикатор | Поддержать проект |
Мира между антагонистическими классами, угнетенными народами и колонизаторами, коммунистической и буржуазной идеологиями быть не может. Только борьба … в любых формах и проявлениях…
Александр Николаевич Яковлев, академик
«Призыв убивать»
На мою публикацию в № 3 (за 1999) «Альтернатив» в журнале сначала откликнулся В. Арсланов («Альтернативы», 1999, № 4), а затем — С. Косухкин («Альтернативы», 2000, № 2). Я счел необходимым отдельно ответить сейчас С. Косухкину — не потому, что считаю статью В. Арсланова не достойной ответа, а по совсем другим причинам. Отклик В. Арсланова лежит в общем русле идей круга «Альтернатив», у нас с Арслановым в значительной степени общие интересы и устремления (во всяком случае, мне так кажется или хочется в это верить) — поэтому и отвечать Арсланову надо в ходе разговора на взаимоинтересные и важные темы в рамках единого дискурса.
А вот отклик С. Косухкина — другое дело. Он заслуживает отдельного обстоятельного ответа именно потому, что написан человеком из совершенно другой среды. И, отвечая Косухкину, я вовсе не собираюсь его в чем-то убеждать или переубеждать. Я хочу лишь — раз С. Косухкин дал мне такую возможность — максимально четко, ясно, выпукло зафиксировать наличие двух разных, непримиримых позиций.
Я убежден, что несовпадение во взглядах по тем или иным частным (или даже общим, принципиальным) вопросам между каким-то Тарасовым и каким-то Косухкиным никому не интересно. Но дело в том, что и Тарасов, и Косухкин выступают на страницах «Альтернатив» (и вне их) как выразители взглядов каждый своей социально-культурной группы (не случайно Косухкин постоянно оговаривается: «мы видели», «нам заметно»; «мы» — вот что главное в тексте Косухкина). Эта социально-культурная группа является для каждого из авторов — и Тарасова, и Косухкина — референтной. Именно принципиальное несовпадение позиций этих социально-культурных групп (для простоты далее в тексте я буду именовать их — хотя это не вполне корректно — «стратами») и является общественно значимым и ценным.
С. Косухкин выражает взгляды довольно большой и влиятельной страты либералов-шестидесятников. А. Тарасов выражает взгляды куда меньшей по численности и влиянию страты сторонников коммунистической революции, страты, сформировавшейся в 70—80-е годы («годы застоя»). Возможно, С. Косухкину очень хочется думать, что нас нет, что есть только его страта. Вынужден его расстроить: мы есть, это объективная реальность, от его воли не зависящая. И у нашей страты есть собственная идеология, антагонистичная идеологии либералов-шестидесятников — и собственный жизненный и политический опыт, радикально отличный от опыта либералов-шестидесятников.
Для начала хочу «реабилитировать» в глазах С. Косухкина и его страты журнал «Альтернативы». Косухкин ведь и начинает с того, что журнал очень интересный, но вот статья Тарасова… Да, статья не предназначалась для «Альтернатив» (она написана для другого издания, парижского) и попала в руки главного редактора «Альтернатив» по сути случайно — как доказательство того, что в «Альтернативах» такое напечатано быть не может. Я не менее С. Косухкина был поражен, когда узнал, что «Альтернативы» решили статью печатать. Поэтому никакие, даже скрытые, упреки в адрес журнала несостоятельны: статья не отражает линию «Альтернатив», «Альтернативы» — это издание «демократических левых» (преимущественно, поскольку на страницах журнала выступают представители и иных взглядов), а Тарасов к «демократическим левым» заведомо не принадлежит.
О «годах застоя». Не знаю, к сожалению, что делал в эти годы С. Косухкин, но знаю, что делала его страта. Моя страта такую деятельность отвергала и презирала. Вопреки тому, что думает С. Косухкин, я в «годы застоя» немножечко посидел в тюрьме, немножечко — в спецпсихбольнице, где, в частности, узнал, что такое ЭСТ (электрошок), инсулиновые комы и двухчасовые избиения со скованными за спиной руками. Почему и вышел на свободу с длинным списком тяжелых хронических заболеваний. А в 1977-м меня чудом не расстреляли по обвинению в устройстве взрыва в Московском метро. И наверняка расстреляли бы (следователь Симоненков мне прямо говорил, что у них есть все доказательства и не хватает только моего признания), если бы внезапно не выяснилось, что у меня — редчайший случай! — было более чем железное, 300-процентное алиби: за две недели до взрыва я попал в клинику Института ревматизма и вышел оттуда только спустя две недели после взрыва; в клинике я ежеминутно был на глазах у трехсот свидетелей, да к тому же еще сам, без посторонней помощи, передвигаться почти не мог. В общем, типичный террорист.
Но мне лично, я полагаю, еще повезло. У моего товарища по подполью (такого же члена руководства нашей подпольной организации, как и я) Игоря Духанова, в отличие от меня, удалось в спецпсихбольнице спровоцировать настоящую шизофрению — и он так и пошел потом кочевать по психушкам (уже обычным, без всякой политики). У другого члена руководства нашей партии (а называлась наша организация громко — Неокоммунистическая партия Советского Союза, НКПСС) — Натальи Магнат — развилось тяжелое заболевание кишечника — болезнь Крона, Наташа перенесла две сложнейшие операции, у нее вырезали весь толстый кишечник, и в 1997 г., сорока двух лет от роду, Наташа умерла — умерла потому, что либералы-шестидесятники руками пришедшего к власти «гаранта демократии» Ельцина разрушили советскую систему бесплатного здравоохранения, а на очередную операцию стоимостью 20 тысяч долларов у Наташи денег не было (а и были бы — не помогло бы: еще около 30 тысяч потребовалось бы на послеоперационное лечение). Так что у меня к господину Косухкину и его страте есть, помимо прочего, и личный счет: вы убили моего товарища, умнейшую и интеллигентейшую женщину, талантливого переводчика Наташу Магнат. Между вами и нами — кровь. Мне отмщение — и аз воздам.
У нас — совершенно иной опыт и иной подход к миру, к жизни, чем у вас (я говорю здесь и далее, разумеется, не столько лично о г. Косухкине, сколько о его страте). Да, наш опыт — горький. На похоронах Наташи Магнат я говорил со своими товарищами и мы сошлись во мнении, что хвастаться нам нечем: вот если бы мы свергли власть КПСС и сами пришли к власти, совершили социальную революцию — тогда другое дело. Но, во всяком случае, мы не лизали партийных задниц, не играли по чужим правилам. Тот факт, что мы предвидели деградацию Советского Союза до периферийной буржуазной демократии, не оправдывает нас в наших глазах. Возможно, нам надо было действовать менее осторожно, не так тщательно отбирать людей: пусть бы они были глупее, но их ко времени «перестройки» было бы больше, — может быть, это дало бы возможность сейчас людям моей страты оказывать более заметное влияние на общественные процессы в стране (просто за счет массовости). Похоже, мы недооценили в свое время и опасность вашей страты, страты либералов-шестидесятников, и не использовали всех мыслимых возможностей для максимального ослабления и уничтожения вашей страты, не предприняли достаточных усилий для того, чтобы натравливать вас друг на друга и на режим, а режим на вас — глядишь, значительная часть вас к моменту «перестройки» погибла бы, и это, безусловно, самым благотворным образом сказалось бы на судьбах моей страны (СССР) и на судьбах населявших ее народов. Но, во всяком случае, все мы и тогда, и сейчас готовы к смерти в тюрьме или лагере — этот конец представляется нам логичным, вероятным и далеко не худшим.
Да, мы в «годы застоя» презирали официальных журналистов (я понял из текста г-на Косухкина, что он был журналистом и тогда; возможно, я понял его неверно). Люди, работавшие в официальных советских подцензурных изданиях, вызывали у нас только отторжение. Человек, который добровольно согласился морочить голову населению нашей страны при помощи СМИ и по указке номенклатуры, в лучшем случае жалок, в худшем — вызывает ненависть. Глубочайшая проституированность советских журналистов — либералов-шестидесятников — была нам очевидна, а в годы «перестройки» и «постперестройки» она стала очевидна всем. Умение держать нос по ветру, лизать задницы тех, кто платит, трусость, полное отсутствие собственного достоинства и представления о чести, помноженные, как правило, на интеллектуальную ограниченность и литературную безликость, — вот основные черты советской журналистики со времен сталинского термидорианского переворота. Есть множество хрестоматийных примеров. Скажем, Юрий Черниченко, Юрий Феофанов, Виталий Коротич. Сравните то, что писал Черниченко в 70-е о селе, о «колхозном строе», — и его постсоветскую деятельность (и никого из либералов-шестидесятников этот оборотень не смущает!). А Юрий Феофанов, пламенно борющийся за «правовое государство» после своих же собственных подлых статей в 60-е (по делу Синявского и Даниэля, например) — тоже вовсе не изгой в сообществе либералов-шестидесятников, а уважаемый человек. А читали ли вы, г-н Косухкин, «Лицо ненависти» Коротича? А сравнивали ли вы это с тем, что Коротич писал об Америке и из Америки тогда, когда он туда драпанул? Различие между нами и вами, между нашей стратой и вашей стратой — это еще и различие моралей: у нас — одна мораль, у вас — другая. Сосуществовать эти морали не могут. Либо мы уничтожим вашу мораль (и ее носителей), либо наоборот.
 |
Именно поэтому нас совершенно не интересовало, что такого оригинального, отличного от суконно-казенно-убогого набора штампов местной номенклатуры мог сказать во «времена застоя» Александр Н. Яковлев. Что бы ни сказал публично Александр Н. Яковлев, он, как зав. отделом пропаганды ЦК КПСС, мог сказать только то, что укрепляло и шло на пользу правящему слою контрреволюционного советского государства — номенклатуре. Поскольку Яковлев был умным врагом трудящихся, умным врагом коммунизма — он был просто более опасным врагом. Так мы это понимали. Дальнейший ход событий подтвердил нашу правоту. Мы отличались от вас, либералов-шестидесятников, тем, что вы с восторгом ловили в речах партийного бонзы признаки мельчайшего «свободомыслия», не смея покуситься на «устои», а мы радикально отрицали контрреволюционную советскую действительность, желали социальной революции и готовились к ней, работали для нее, жертвуя собственным благополучием, здоровьем, жизнями. Поэтому нас интересовала не писанина советских журналистиков и не выступления высокопоставленных партбюрократов, а опыт сопротивления — опыт партизан Кубы, Никарагуа, Уругвая, Перу, Колумбии, Сальвадора и т.п., опыт подполья «Народной воли», эсеров, большевиков и анархистов, опыт антифашистского Сопротивления в годы II Мировой войны, опыт вооруженной борьбы «лесных братьев» в Прибалтике и на Западной Украине (идеологически они, конечно, были нашими врагами, но нас интересовали технические вопросы), опыт «городской герильи» в Западной Европе, наконец.
У нас, во всяком случае, была четкая и ясная позиция. А вот вы, ваша страта — вы что, верили во весь тот бред, который спускался вам партбюрократией сверху и который вы затем покорно транслировали на всю страну через свои советские подцензурные газеты? Если да — то это, извините, признание собственной глупости. Если нет — то это признание собственной трусости.
Кстати, об А.Н. Яковлеве. Интересно, не попадалась ли г-ну Косухкину книга А.Н. Яковлева «Призыв убивать», написанная будущим академиком тогда, когда он был зам. зав. отделом пропаганды ЦК? Это очень интересная книга. Ничем не хуже знаменитой книги Коротича «Лицо ненависти». Замечательная в своей примитивной советской демагогичности и кондовости. Пещерный Юрий Жуков — и тот в своих книгах, обличавших «происки империализма против первой в мире страны социализма», был мягче, человечнее, талантливее и достовернее.
Г-на Косухкина как журналиста, наверное, особо заинтересуют такие строки из последних абзацев книги «Призыв убивать»:
Однажды автору этих строк пришлось присутствовать на одной из дискуссий в Нью-Йорке. Профессору университета американский студент задал вопрос:
— Что прежде всего сделают люди, когда обо всем договорятся?
— Повесят журналистов, — ответил профессор [1].
Теперь о статье 1972 года в «Литературке», за которую Яковлева «репрессировали» (то есть отправили послом в Канаду, то есть, называя вещи своими именами, понизили в должности, переместили на несколько ступенек вниз по бюрократической лестнице; разница в понимании термина «репрессия» между нами и вами тут очень показательна: для вас репрессия — это понижение в должности, а вот для нас репрессия — это арест, тюрьма, лагерь). Статья эта называлась «Против антиисторизма». Не знаю, помнит ли С. Косухкин как следует ее содержание. Боюсь, что нет. А между тем, было бы совсем не вредно перечитать эту статью с позиций сегодняшнего либерала-шестидесятника. Особенно те части, где А.Н. Яковлев «долбает» «молодогвардейцев» за кулацкие и реставраторские настроения и за симпатии к религии, — то есть за то самое, что сегодня в вашей страте, у либералов-шестидесятников, считается как раз правильным. Да, конечно, «молодогвардейцы» еще и в русский национализм впадали — им и за это досталось. Но если вы внимательно вчитаетесь в текст, то поймете, что А.Н. Яковлева пугает не покушение на интернационализм, а угроза власти партноменклатуры, исходящая со стороны националистов (отдадим должное проницательности Яковлева; впрочем, не зря же он руководил пропагандистским обеспечением подавления «Пражской весны»!). Говоря иначе, перед нами типичная борьба представителя новой, контрреволюционной термидорианско-директориальной элиты со сторонниками Реставрации: как же так, мы уже — новая власть, новые хозяева, нувориши, мы всё держим в руках, мы успешно (коллективно) объедаем страну и эксплуатируем это «быдло» — трудящихся, а тут появляются какие-то негодяи, которые намекают (но мы-то знаем, что намеки — это только первый шаг!), что есть какие-то «законные хозяева» — Бурбоны, попы, аристократы, феодалы…
 |
Мих. Андр. Суслов, конечно, видел дальше А.Н. Яковлева — и, конечно, понимал, что всякие там марксизмы и интернационализмы — это явление временное, и рано или поздно бюрократия чуждую себе идеологию должна будет отбросить, а поэтому надо бережно растить слабые пока еще ростки новой идеологии, будущей идеологии национальной бюрократ-буржуазии. И статья Яковлева — пример слишком топорного понимания интересов номенклатуры. И, значит, Яковлеву рано еще сидеть в кресле зав. отделом пропаганды ЦК. Пусть посидит в Канаде послом (работа непыльная, высокооплачиваемая, почетная), поумнеет, посмотрит, как элита живет там, на Западе, то есть как элита должна жить у нас…
Усилиями наших либералов-шестидесятников, взахлеб писавших и говоривших об этом 10 лет подряд во всех отечественных СМИ, мы теперь все, конечно же, знаем, что в окаянные «годы застоя» все они, шестидесятники — начиная от Генерального секретаря ЦК КПСС и кончая самым занюханным сексотом, — были «диссидентами» и «боролись против советской власти». И подвергались за это бесчеловечным жесточайшим репрессиям. Вот, например, знаменитый думский деятель-«яблочник» Владимир Петрович Лукин, профессор, неоднократно рассказывал о том, как он подвергся в «годы застоя» свирепым политическим репрессиям. В 1968 г. он, сидя в Праге в редакции журнала «Проблемы мира и социализма», не поддержал ввод советских войск в Чехословакию — и тем самым, ясное дело, чуть было не сорвал подавление «Пражской весны»: танкисты наотрез отказывались переходить без санкции Лукина советско-чехословацкую границу, так прямо и говорили: где Лукин? где Лукин? без Лукина, дескать, шагу не ступим. Еле-еле успели заменить танкистов вертухаями из мордовских лагерей, а сами танки — караульными собаками… Лукина хотели даже за такой беспрецедентный акт саботажа и предательства публично четвертовать на Красной площади, но потом вспомнили, что он сидел в Праге на номенклатурном месте, — и придумали ему казнь куда страшнее: перевели его в Москву на должность заведующего сектором в Институте США и Канады и сделали невыездным то ли на 7, то ли даже на целых 10 лет. Вот каким зверствам подвергала советская система свободолюбивых либералов-шестидесятников!
Чтобы закончить с А.Н. Яковлевым, добавлю, что со времен Сталина, насколько я помню, не было у нас случая такого беззастенчивого назначения академиком, как это было с Яковлевым. Какие такие научные достижения числятся за этим академиком? В области какой конкретно гуманитарной науки? Андрей Януарьевич Вышинский, академик, по крайней мере сочинил основополагающий труд «Теория судебных доказательств в советском праве», то есть был теоретик — и «теории» его находили блестящее подтверждение на практике: действительно, тысячи, десятки тысяч раз удавалось успешно осудить человека на основе одних только его собственных признаний или даже вероятности фактов, подлежащих судебной оценке!
Уровень престижа звания «академик» и так уже упал у нас в стране ниже табуретки — и об этом прямо пишут сегодня в газетах. Думаю, в немалой степени этому способствовал тот факт, что у нас есть такой академик, как А.Н. Яковлев. Сказать «я состою в одной академии с А.Н. Яковлевым» — все равно что сказать «я состою в одной академии с Гришкой Распутиным» или «с Малютой Скуратовым».
А.Н. Яковлев, напомню, был тем человеком, который в ночь с 3 на 4 октября 1993 г. подвел «идеологическую базу» под расстрел парламента, охарактеризовав в своем радиообращении всех противников Ельцина как «фашистов». А.Н. Яковлев, напомню, был в декабре 1993 г., как особо доверенное лицо в ельцинском окружении, назначен на важнейшую должность директора Федеральной службы телевидения и радиовещания (ФСТР) и на должность председателя РГТРК «Останкино». Это он превратил радио и телевидение в один сплошной поток разнузданной антикоммунистической пропаганды, мало в чем уступавшей маккартистской или геббельсовской. Это он приложил все усилия, чтобы превратить государственное телевидение в акционерное общество (и, таким образом, передать из государственного бюджета в частные руки доходы от рекламы) и подвести под сокращение как можно больше работников РГТРК (им «не нашлось места» в АО «ОРТ»). Не случайно трудовой коллектив РГТРК дружно выразил ему в марте 1995 г. недоверие (а Яковлев расценил это как бунт быдла — и ушел с поста: бояться ему было нечего, он лучше всех знал, что РГТРК — в результате его же собственных действий — уже перестала существовать!).
Наконец, это именно Яковлев в августе 1996 г. опубликовал свое знаменитое «Обращение к общественности», в котором прямо призвал власть развернуть массовые репрессии против сторонников коммунистической идеологии.
Так что совершенно справедливо и за дело дала ему по морде какая-то женщина в Самаре. Жаль, что он получил лишь пощечину. Жаль, что не пулю.
Яковлев при Ельцине — это Победоносцев при Александре III. На Победоносцева покушались, но неудачно. Это обидно. На Яковлева даже не покушались. Это позорно.
Г-на Косухкина возмущают мои покушения на разных «священных коров» — особ, которые для вас, либералов-шестидесятников, иконы: на Окуджаву, на Вознесенского, на академика Лихачева и т.д. Но для нас — они давно уже не иконы и не «священные коровы»! И даже не авторитеты. И это ведь не мы их дискредитировали. Это они сами дискредитировали себя.
 |
Помилуйте, каким «преследованиям» подвергали Андрея Вознесенского и Булата Окуджаву? Это когда Хрущев с трибуны на Вознесенского наорал — это, что ли, «преследования»? Преследования писателей у нас начинались с исключения из Союза писателей. Следующий шаг — исключение из партии. Затем — полный запрет на публикации и какую-либо другую работу (то есть попытка удушить голодом). Затем — тюрьма. Вот это и есть преследования. Это Юрий Галансков, умерший в тюрьме, преследовался. Это Юлий Даниэль, Андрей Синявский, Леонид Бородин, Низаметдин Ахметов, сидевшие в тюрьмах и лагерях, преследовались. Это Тарсис, помещенный в спецпсихбольницу, преследовался. Это Олег Григорьев, умерший от заработанный в тюрьме язвы, преследовался. А Вознесенский и Окуджава выпускали книгу за книгой, печатались в самых престижных журналах, ездили за государственный счет за границу, где «достойно представляли советскую культуру» на международных форумах. Окуджава еще и пластинки выпускал, и песни к кинофильмам писал — не подпольно, между прочим, а вполне легально, на государственные деньги [2]. И жили они совсем не плохо. Интересно, бывал ли г-н Косухкин на даче Вознесенского в Переделкино? Или в кооперативной квартире Окуджавы в Безбожном (ныне Протопоповском) переулке?
При этом они имели статус «гонимых» и «преследуемых», репутацию «оппозиционеров», что автоматически гарантировало внимание, успех и издание на Западе (следовательно, и немалые гонорары [3]). Но то, чем занимались Окуджава и Вознесенский, называется не «оппозиция». Это называется фронда. Это у них должность такая была, высочайше одобренная — фрондеры. Сам Ю.В. Андропов любил стихи Вознесенского и песни Окуджавы. А вот песен Галича не любил.
Это мы любили (и любим) Галича. Это мы знаем, что про всех вас, про всю вашу страту Галич еще в 1963 (!) году написал песню. Называется «Старательский вальсок». Советую г-ну Косухкину ее вспомнить. Уверен, она ему знакома не хуже, чем мне.
Это мы все годы «перестройки», наблюдая поведение вашей страты, постоянно вспоминали строки Галича из его гениального «Кадиша»:
Паясничают гомункулусы, Геройские рожи корчат. Рвется к нечистой власти Орава речистой швали.
Вообще, поскольку мы революционные процессы изучали профессионально, никаких иллюзий по поводу «перестройки» и «гласности» у нас не было. В отличие от вашей страты, сразу же — впрочем, по приказу сверху — принявшейся петь гимны «гласности» и «перестройке» (причем, как быстро обнаружилось, небескорыстно), мы друг другу постоянно напоминали строчки Саши Чёрного:
Дух свободы... К перестройке Вся страна стремится, Полицейский в грязной Мойке Хочет утопиться.
Не топись, охранный воин, — Воля улыбнется! Полицейский! Будь покоен: Старый гнет вернется...
Я готов допустить, что наше предпочтение Галича Окуджаве хотя бы отчасти объяснялось внеэстетическими причинами. Но ведь и роль искусства несводима к одной только эстетике. Я готов даже допустить, что наше предпочтение Галича носит отчасти утилитарный характер — во всяком случае, выяснил же я в разговорах с моими товарищами по подполью Васей Минорским и Ирой Борисенко, что пение про себя песен Галича очень помогало нам на допросах, прямо-таки нейтрализуя воздействие следователей КГБ (только пели мы разное: я, скажем, «И я спросил его: «Это кровь?»/ «Чернила», — ответил он», а Ира — «Дело явно липовое, все как на ладони,/Но пятую неделю долбят допрос»). Ну что же, это наша жизнь и наш опыт. Вам этого не понять:
Никаких вы не ведали фортелей, Вы не плыли бутырскими окнами, У проклятых ворот в Лефортове Вы не стыли ночами мокрыми.
Именно поэтому «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» вызывало у одних моих товарищей искреннее недоумение, у других — гомерический смех: это, стало быть, что, если посадят не некоторых, не «поодиночке», а всех — так будет лучше? Это, стало быть, надо «взяться за руки», то есть облегчить КГБ работу по выявлению твоих связей?! [4]
 |
Независимо от его политических воззрений (с которыми я могу и не соглашаться) Галич был человеком, который выломился из вашей либерально-шестидесятнической страты, который пошел до конца — в отличие от вашего поколения в целом, умевшего лишь рассовывать по карманам кукиши, то есть фрондировать, а не сопротивляться. Типичный представитель либералов-шестидесятников, Юрий Нагибин, одно время близко общавшийся с Галичем, в своих воспоминаниях, датированных 1989 г., пытается — совершенно беспомощно и неубедительно — объяснить, почему ваша страта предпочитала безобидного Окуждаву опасному Галичу (то, что это — коллективное предпочтение, из мемуаров очень хорошо видно; Нагибин для авторитетности даже на мнение Войновича ссылается) [5]. Все эти «объяснения» обесцениваются не замеченной самим Нагибиным проговоркой — что расхождение между ним и Галичем началось как раз тогда, когда Галич стал активно писать свои песни, и эти песни вышли из кружка ближайших знакомых — и начали завоевывать страну (причем Нагибин заметил, что поклонником Галича была молодежь — то есть люди из другого поколения) [6]. Трусливый, как все либералы-шестидесятники, Нагибин сразу сообразил, чем это пахнет и к каким неприятностям может привести, — и быстренько дистанцировался от опасного Галича. «Осторожность, осторожность, осторожность, господа!»
Зато Нагибин — как это вообще присуще либералам-шестидесятникам — не преминул в своих воспоминаниях опустить (говоря блатным языком) Галича, специально подробно рассказав (хотя никто его за язык не тянул), что тот после инфарктов пристрастился к морфию, а последняя жена Галича страдала алкоголизмом. Либералы-шестидесятники вообще очень любят вот так принижать тех, кто выше и лучше их. Эту классическую черту филистера — любовь к изображению великих в «шлафроке и домашних туфлях» и к смакованию их пороков — подметил еще Пушкин: обыватель «в подлости своей радуется унижению высокого, слабости могущего… Он мал, как мы, он мерзок, как мы!» «Врете, подлецы, — не выдержал тут Пушкин, — он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе» [7].
Людям моей страты сам Нагибин долгое время казался человеком порядочным — пока не грянула «перестройка», и Нагибин не раскрылся во всей красе, принявшись публиковать мерзенькие сочинения, в которых он обсасывал подробности чужой интимной жизни, — упивался, например, возможным гомосексуализмом великого Чайковского. Этот пример прямо отсылает нас к тому анекдоту про «армянское радио», который приводится г-ном Косухкиным.
А уж когда был издан дневник Нагибина — вся мерзость вашей либерал-шестидесятнической страты, вся мерзость вашего поколения обнажились окончательно. Чего стоит один рассказ о том, как Нагибин не поехал с делегацией Союза писателей (то есть на государственные деньги!) в «Колумбию — Венесуэлу с заездом в Нью-Йорк»! Нагибин только что вернулся из такой же поездки за государственный счет в Норвегию (он вообще за чужой, государственный счет широко поездил по свету — и по результатам каждой поездки сочинял «путевые заметки», публиковавшиеся везде, где только можно, вплоть до журнала «Новое время» — а это хорошие гонорары) и уже совсем собрался в «Колумбию — Венесуэлу — Нью-Йорк», как вдруг его почему-то их списка вычеркнули. «Сатрапы окончательно разнуздались… — вскипел праведным гневом писатель-шестидесятник. — Какой поразительный человеческий, вернее античеловеческий тип создала эпоха! Эти гады налиты враньем, как гостиничные клопы — кровью» [8]. Вот так. «Сатрапы».
 |
 |
 |
 |
Юрий Нагибин
| |
Галич же, и по возрасту, и по происхождению, и по социальному положению — кровь от крови и плоть от плоти шестидесятников, честно признался (от имени всей вашей страты):
Мы проспали беду, Промотали чужое наследство... —
только вы его, «неправильного», услышать не захотели.
— Как живете, караси? — Хорошо живем, мерси!
Все ваше карасье существование шестидесятнической страты, метавшейся между стремлением выглядеть «оппозиционно» и «не подло», с одной стороны, и страхом спровоцировать гнев начальства и загреметь туда, куда Макар телят не гонял — с другой, вкупе с тоскливой завистью к сытой закордонной жизни, описано еще в 1906 г. Леонидом Мунштейном (Lolo) в своем «Письме карася»:
...Форель, далекая сестра! Я знаю, ваша жизнь привольна, Разнообразна и пестра... А я?.. Обидно, горько, больно Судьбу оплакивать свою... Но ничего не утаю!
<...> У нас, в струях холодных, мутных, Бедой сменяется беда... Кипят, волнуются стада Незрелых юношей беспутных... О, время! Господи спаси! Куда девалась тишь былая?
Покоя прежнего желая, Трепещут братья караси. Весь день оглядываюсь робко... Пугает «враг», начальство жмет. На пароходе лопнет пробка, А мне уж снится пулемет.
<...> Живу я мирно, беспартийно, Рад оказать властям почет. Пускай движение стихийно, Оно меня не увлечет. Но как мне быть, чтоб дар прекрасный, Чтоб жизнь подольше протянуть?
Я не вступлю на путь опасный, Где ж безопасный, верный путь? Покорность щуке обнаружишь — У красной рыбы гнев заслужишь; Объявишь с красными протест — Скоропостижно щука съест.
Я безответен, незаметен, Живу, с безвестностью мирясь, Но пристают: «Ваш цвет, карась?» — «Цвет? Но позвольте! Я бесцветен!» — «Хоть вашу скромность я ценю, — Мне возражает линь на это, — Но жить теперь нельзя без цвета!» Ах, что ответить мне линю? Он говорит мне как по нотам: «Бесцветность вряд ли вас спасет, Сочтет вас красный “патриотом”, Найдет вас красным “патриот”».
Итак, я всем кажусь опасным! Съедят! Я чувствую давно. А как? Не все ли мне равно: Под белым соусом иль красным? Иная рыбка уплыла, Иная все еще храбрится...
<...> Ах, как хотел бы стать форелью Ваш бедный, трепетный карась! [9]
В вашей страте, г-н Косухкин, видимо, считается хорошим тоном впадать в слезливо-сентиментальное состояние от песенки «Возьмемся за руки, друзья», равно как и от песенки «Девочка плачет, шарик улетел». В вашей среде уже не могут родиться такие вот строки, посвященные несчастным девчонкам — уличным проституткам (строки с отсылками и к песне Окуджавы, и к известному стихотворению Наума Коржавина):
Им жить бы хотелось иначе И не торговать собой — И девочки плачут и плачут, И зверствует «кот» голубой...
Кстати, о проститутках. Я по одной из основных своих социологических специализаций — ювенолог. Занимаюсь, то есть, проблемами молодежи. В том числе и проституцией (проститутки, как известно — в основном молодые женщины, зачастую — подростки). Так вот, одних только уличных проституток в Москве сегодня, по подсчетам милиции, до 40 тысяч (это не считая не уличных, бордельных, которых не меньше, а, вероятно, больше — объявления «Досуг» (вы знаете, что это значит; впрочем, бывают и более откровенные объявления: «Досуг. Студентки») занимают в газетах целые полосы!). Чтобы понять, что это такое — 40 тысяч, скажу, что на всю Францию приходится лишь 5 тысяч проституток.
 |
А кто эти проститутки и почему они торгуют своим телом? А это практически поголовно голодные и безработные девчонки из Украины, Молдавии и небольших городов России. Работы там нет, промышленность стоит, нет денег, голод. У них просто нет другого пути. Вы, ваша страта, г-н Косухкин, ваше поколение, пришедшее к власти при Горбачеве, обрекло этих несчастных девчонок на такую жизнь. Вы несете за это прямую ответственность. За одно это вы, как поколение, будете прокляты в веках.
Все, что вы умеете, как оказалось — это разваливать и разворовывать. Развалили Советский Союз, развалили промышленность, развалили систему образования, развалили систему здравоохранения. Лишили молодежь будущего — подвергли ее, по сути, репрессиям. За что? Почему? Я бы понял, если бы вы репрессировали своих врагов — классовых, политических, идеологических. Но вот эти 15—17-летние девчонки, которых вы толкнули на панель, обрекли поголовно на психические заболевания, наркоманию, венерические болезни, СПИД, издевательства и избиения клиентов-садистов из «новорусской» и уголовной среды, — они-то что вам сделали? Их-то за что?
Вернемся к Окуджаве. Есть у меня друг — парижский художник, поэт, кино- и театральный актер и эстетик Толстый. По возрасту как раз «шестидесятник». Но шестидесятник, выломавшийся из своей среды и порвавший с ней. В 70-е он, проживая еще в Москве, добровольно вышел из КПСС — в знак протеста против измены партии своим идеалам. После этого его, естественно, отовсюду выгнали, долго травили и вынудили наконец эмигрировать.
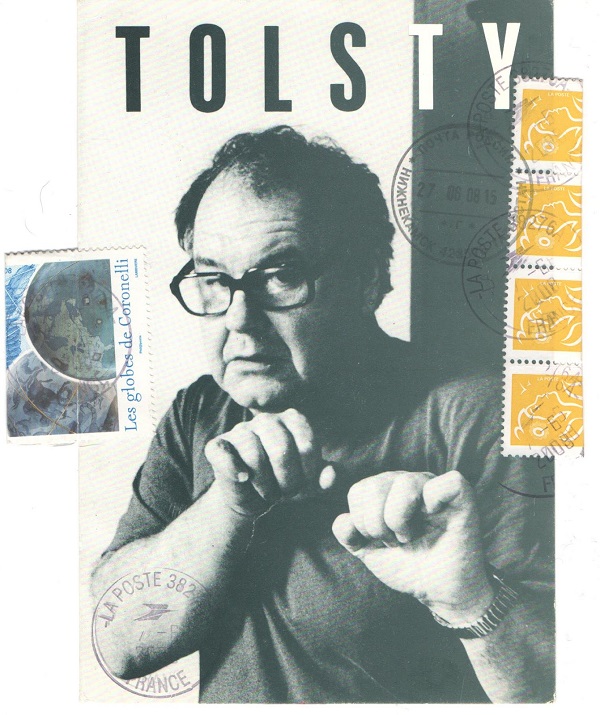
В эмиграции Толстый вел себя прилично: ЦРУ задницу не лизал, на Родину не клеветал. С антисоветской эмиграцией поссорился мгновенно, написав в «Русскую мысль» письмо протеста против лживости этой газеты. После чего, естественно, стал для русской эмиграции «персоной нон грата». Работал чернорабочим, мостил дороги, мыл посуду в забегаловках для проституток на Пляс Пигаль. Сделал себя сам. Сам, на собственные деньги, издавал бесившую эмигрантов ерническую газету «Вечерний звон». Стал заметной фигурой во французской артистической среде, известным художником, основал новое направление в живописи — «вивризм», снялся в 30 фильмах (некоторые у нас даже по TV показывали — «Королева Марго» и «Индеец в Париже»), играет сейчас в Русском театре в Париже. Активно участвовал во Франции в анархистском движении. Цитату из его стихотворения я использовал в своем «Манифесте» в качестве одного из эпиграфов:
А между тем пила и кушала, Вложивши душу в сей процесс, Демократическая шушера — Надежный друг КПСС.
Кто грамотный, тот знает, что это — парафраз Галича.
И вот в сборнике «Вехи вех» (где, кстати, опубликована и одна моя статья, вызвавшая целых две печатные истерики — одну в московском журнале «Знамя», другую — в парижском журнале «Стетоскоп») Толстый интересные вещи пишет об Окуджаве: странное дело, говорит Толстый, в «Русской мысли» (напомню, что «Русская мысль» до недавнего времени издавалась на ЦРУшные деньги и даже главным редактором там была кадровый сотрудник ЦРУ Ирина Иловайская-Альберти) Окуджава всегда был дорогим гостем, несмотря на членство в КПСС. А ведь иногда, вспоминает Толстый, «Русская мысль» не подпускала к себе даже заслуженных борцов с советским режимом и «отсидентов»! [10] А я от себя добавлю: и по возвращении в СССР, что интересно, никто не тащил Окуджаву на Лубянку за «контакт с американскими шпионами»!
Толстый припоминает и другой интересный факт:
Помню, что как-то прочел в «Русской мысли» интервью с Окуджавой. Журналист спросил его: «Почему вы не уезжаете?» — «Боюсь нищеты», — был ответ. Окуджава понимал, что на Западе жизнь нужно либо украсть, что наказуемо, либо заработать, что непросто. А в России и кража ненаказуема, и холуйство или «непротивление злу» оплачивается дороже, чем труд. Он сделал свой выбор! [11]
 |
Завершая об Окуджаве, скажу, что ваше поколение, ваша страта упорно пытались и пытаются навязать нам (и всему обществу) искаженное представление об Окуджаве — в частности, о масштабе его таланта. Окуджава — хороший поэт. И не более того. Если перечитать спокойно его песни как стихи, сознательно абстрагируясь от музыки, — оказывается, некоторые из них сохраняют всё свое эстетическое (и внеэстетическое) воздействие (например, «Песенка о солдатских сапогах» или «Опустите, пожалуйста, синие шторы…»), а некоторые (и их больше) — теряются, иногда становятся просто никакими (например, «Новое утро» или «Из окон корочкой несет поджаренной…») [12]. А прозаик Окуджава — просто плохой. Я бы такую прозу в таких объемах печатать постеснялся.
Вы, шестидесятники, поднаторевшие во вкусовщине и групповщине, прекрасно знаете, что репутации утверждаются и канонизируются путем систематического повторения. И вы прекрасно освоили искусство восхваления своих, навязывания всем дутой репутации шестидесятников. И Вознесенский-то у вас — «гений» (хотя после «Антимиров» и «Озы» он только деградировал и деградировал — и превратился в конце концов в штатного сочинителя надгробных слов: как кто-нибудь умрет — глядь, над отверстой могилой Вознесенский уже стихи о его смерти читает!), и Окуджава — «великий писатель», и Мамардашвили — «великий философ». Это, вообще-то, требует доказательства. Например, путем сравнения. Сравним Окуджаву с Маяковским или Мандельштамом — что останется от Окуджавы? Сравним Мамардашвили с Сартром или Лукачем — что останется от Мамардашвили?
Косухкин почему-то уверен, что я «спал глухим сном или отсиживался в глухом подвале» в августе 1991 г. Не спал и не отсиживался. Напротив, именно потому, что мы с моими товарищами считали недопустимым дилетантизм в политике — и изучали опыт государственных переворотов (в частности, в Латинской Америке), мы знали, что всякий государственный переворот начинается с того, что закрываются границы и аэропорты, отключается телефонная связь (чтобы парализовать оппозицию), вводится чрезвычайное положение на территории всей страны, войскам дается приказ стрелять по скоплениям на улицах, запрещаются все «нелояльные» СМИ, распускаются все партии и массовые организации, устанавливается военная цензура, производятся массовые аресты. Ничего этого сделано в СССР не было. И, в отличие от наших «демократов» — как правило, филологов и журналистов, свято уверенных, что они и без всяких специальных знаний лучше всех разбираются в политике, мы сразу поняли, что весь этот «путч» — бутафория. Я даже написал об этом статью под названием «Советские гориллы — самые тупые гориллы в мире». И, пользуясь широкими связями в «неформальных кругах», попытался ее издать. Не тут-то было! Никто ничего не хотел слушать (как же: «демократия в опасности!»), а некоторые даже странно на меня смотрели и говорили, что эта статья «выглядит как провокация».
 |
20 числа я рассказал своему товарищу по подполью Ольге Бараш (позднее — переводчику, критику и издателю журнала «Арахна»), что мои знакомые анархисты где-то в районе «Белого дома» по наивности соорудили отдельную баррикаду, и я, зная, что анархисты — народ экспрессивный и, как теперь говорят, «безбашенный», опасаюсь, как бы они во что не ввязались по дури. «Так как же тебе не стыдно? — сказала мне Оля. — Пойти — и уведи их оттуда! Погибнут же ни за понюшку табаку!» Пошел я к «Белому дому». Увидел со стороны «Краснопресненской», что там наворочали — и ужаснулся: мне, человеку, специально изучавшему тактику уличного боя, было очевидно, что эти «баррикады» не то что танк, БТР не остановят! Но баррикаду анархистов я не нашел (как позднее выяснилось, она была довольно далеко от «Белого дома» — практически на Калининском проспекте). По счастью, «путч» был такой уже вопиюще картонной бутафорией, что никто из этих мальчишек не пострадал.
Погибли, как известно, три экзальтированных простака, провозглашенные затем «героями». Погибли по собственной дури, решив зачем-то остановить колонну БТР, шедшую не на «Белый дом», а к Парку культуры! Это же нужно совсем свихнуться, чтобы закрыть механику смотровую щель, долбануть машину бутылкой с бензином — и затем встать перед ней, ослепшей, в святом убеждении, что с тобой ничего не случится! БТР к маневрам в городской черте не приспособлен. Он при старте с места «прыгает» на два метра вперед. Конечно, все трое попали под колеса. Спрашивается, кто их так «накрутил»? А вот вы, г-да либералы-шестидесятники, тогдашние «властители дум». Вы устраивали показные истерики и несли всякую ахинею о «демократии». А погибли трое наивных ребят. (На самом деле погибли пятеро: еще двое солдат разбились в перевернувшемся БТР. Но про них почему-то никто не вспоминает.)
Вернемся к академику Лихачеву и «красно-коричневым танкам». Я не буду даже спорить о том, должны ли были танки генерал-полковника В. Самсонова «захватывать» Питер или нет: почему-то до сих пор в разных источниках написано разное, друг другу прямо противоречащее. Но, положим, они бы Питер «захватили». То есть поставили бы несколько танков перед Смольным, несколько — на Литейном, несколько — перед Эрмитажем, несколько — на Площади Искусств и т.д.
Ну и что? Вот Москву же «захватили» — и никакой катастрофы не произошло! [13]
А что вообще могло произойти? Разве войскам был отдан приказ разрушить город и истребить население? У экипажей введенных в Москву танков не было боевых снарядов! У большинства солдат не было боевых — а зачастую и никаких — патронов! А у кого были — у ВВ — был дан один рожок. Этого что — достаточно для подавления массовых выступлений? Смешно. Детский сад.
Г-н Косухкин, чье сознание, как у всех либералов-шестидесятников, глубоко мифологично, наверное, постарался забыть историю «дела ГКЧП». Почему Ельцин клятвенно обещал в Омске, что никогда не выпустит на свободу «гэкачепистов», а следователя Лисова отстранил от ведения дела? Потому, что следствие никак не могло изыскать состав преступления. Сначала это была «измена Родине» (ст. 64 УК РСФСР). Очень быстро Лисову стало очевидно, что это — бред. Кончилось тем, что пытались квалифицировать все как «должностное преступление», которое повлекло за собой человеческие жертвы и могло повлечь массовые человеческие жертвы. На этой стадии Лисов и выяснил, что армия была по сути безоружной! За это его и отстранили. А дело замяли — противоборствовавшие крылья номенклатуры путем закулисного политического сговора (решение парламента об «амнистии») сделали всё, чтобы не допустить суда и огласки всех фактов, имевших отношение к «путчу» (включая такие интересные факты, как то, что США предупредили Ельцина о «путче» — с подробностями — за месяц до 19 августа и что заместители председателя КГБ Крючкова имели инструкции не выполнять указаний ГКЧП!). Могу также напомнить, что генерал Варенников, отказавшийся от «амнистии», выиграл дело в суде вчистую.
Видимо, г-н Косухкин просто не дал себе труда вслушаться в то, что именно сказал академик Лихачев в своем знаменитом телезаявлении. А он сказал, что «красно-коричневые танки» должны были «смести с лица земли Ленинград»! Вот на это я и обратил внимание — на эту заведомую неадекватность. Любому психически здоровому человеку очевидно, что приказа смести в лица земли Ленинград (Петербург) Самсонов своим танкистам дать не мог. А если бы дал — его самого его же собственные подчиненные быстренько бы поместили в психушку. И не только по причинам всем очевидным (культурным, моральным, политическим, экономическим, пропагандистским и т.п.), но и потому, что никакие танки многомиллионный город с лица земли просто физически смести не могут. Для этого нужны ракеты с ядерными боеголовками.
Либералы-шестидесятники поражали и поражают мою страту именно тем, что, будучи в значительной степени филологами и журналистами, они свято уверены, что они прекрасно разбираются в политике. Удивительное дело, на темы ядерной физики они так смело не пишут и не рассуждают и в авторитеты в области ядерной физики не лезут! Между тем, политика — такая же точно отдельная отрасль человеческой деятельности, которая требует специальных знаний, специальной подготовки, которая требует изучения, в которой действуют объективные законы и в которой дилетантизм так же смешон и позорен, как и в ядерной физике. Мы с моими товарищами потратили десятилетия на изучение политики, а вот г-да шестидесятники точно знают, что им и так все понятно, что учиться ничему не надо!
Об академике Лихачеве я вообще-то написал очень умеренно: что дедушка выжил из ума, это надо публично признать и дедушку срочно лечить (я это писал еще тогда, когда Лихачев был жив). Я полагаю, я был прав — ведь услышали же мы вскоре по TV откровенно рамолические воспоминания Лихачева о временах Николая II, вызвавшие дикий хохот у всех моих знакомых, поскольку мы все одновременно вспомнили хрестоматийное «государь император погладил меня по головке». TV, если бы там работали порядочные люди, просто не должно было пускать в эфир эти сенильно-маразматические «воспоминания» — не позорить академика!
Вот Толстый в Париже, не имея возможности смотреть наше TV и потому не подозревавший о впадении Лихачева в маразм, решил, что академик находится в здравом уме и демонстрирует чудеса продажности:
Когда общество потребовало импичмента президенту, наш самый главный интеллигент академик Д. Лихачев заявил, что «это элемент какой-то общей неинтеллигентности». Т.е., по Лихачеву, когда госчиновники преступно переводят движение финансовых потоков в офшорные зоны, пользуясь тем, что являются акционерами частных компаний, уводят деньги из бюджета в систему коррупционного распределения между «своими», в результате чего ежемесячные потери валюты (вывоз и непоступление) превышают общую задолженность бюджета врачам и учителям, — это значит «интеллигентно»?! Да ведь, если и отдадут задолженность сейчас, это будет в четыре раза меньше по валютному курсу и в два — по отношению к покупательной способности на внутреннем рынке. Незадолго до этого заявления господин академик был награжден орденом Андрея Первозванного вместе с автоматом Калашникова, которым пользуются террористы всего мира, и нужно было орденок-то отработать! [14]
 |
Вот к каким выводам может прийти сторонний наблюдатель. И всё это — в результате самонадеянного дилетантизма одних либералов-шестидесятников, убежденных, что они «разбираются в политике», — и бесстыдного использования их другими (тележурналистами, которых г-н Косухкин, как собратьев по цеху, защищает) в пропагандистских целях.
Коллегам г-на Косухкина, «демократическим» журналистам, было глубоко плевать на академика Лихачева и его личные проблемы, личную трагедию — он им требовался исключительно как «всероссийская икона», которая в нужный момент скажет нужные слова: например, что пытаться привлечь к ответственности президента Ельцина, партократа, алкоголика, расхитителя государственной собственности и организатора геноцида, — «неинтеллигентно».
Если же г-н Косухкин полагает, что вообще нельзя публично говорить о возрастном снижении умственных способностей, — то это, простите, уже типичное советское ханжество. И, следовательно, «годы застоя», когда нами руководили маразматические старцы, г-на Косухкина ничему не научили. Снижение интеллектуальных способностей с возрастом — это давно уже (полвека назад!) научно доказанный факт. Не случайно практически все великие научные открытия совершены в молодом возрасте. Среди специалистов есть некоторые расхождения относительно того, на какой возраст приходится пик интеллектуального развития. Наибольшее число сторонников у К. Майлса, показавшего [15], что пик интеллектуального развития приходится на 18—20 лет. Меньшая часть психологов соглашается с Д. Векслером [16], что пик интеллектуальных способностей приходится на 25 лет. Как бы то ни было, объективные (в том числе биохимические) данные свидетельствуют, что интеллектуальные способности человека после 27 лет постоянно снижаются [17]. Я допускаю, что всем шестидесятникам (по причине возраста) читать об этом неприятно. Но это — не аргумент!
Отдельно вынужден сказать о «государственной награде». «Манифест» посвящен интеллигенции и «интеллигенции». До революции 1917 г. русские интеллигенты считали неприличным принимать награды из рук царского режима. Отказывались от таких наград. Хотя награждались не личными наградами Александра III или Николая II, а тоже государственными наградами, от лица государства. Были, конечно, такие, кто награды принимал, вроде Каткова или Мещерского. Но, как справедливо вспоминал Корней Чуковский, этих «работников умственного труда … никому и в голову не пришло бы в 70-х годах назвать интеллигентами» [18].
Не существует просто государства, абстрактного государства. «Просто государство» (так сказать, идея государства) никого не награждает. Государство — это машина, с помощью которой одна часть общества подавляет другую. Машина эта состоит из людей, из аппарата. Вот эти люди, этот аппарат и решает, кого наградить, кого наказать. Принять награду от воров, растлителей и разрушителей — позор. И даже хуже — это значит добровольное признать себя соучастником.
Это элементарно. Только либералы-шестидесятники, которые уверены, что политику изучать не надо, не хотят понимать таких элементарных вещей. Поэтому номенклатура и использует их как пушечное мясо, как тягловую силу, как рупор, как послушный электорат.
Еще более интересно, что и как пишет С. Косухкин о государственном перевороте 1993 г. и установившемся после этого режиме «Второй республики». Разумеется, это интересно именно потому, что С. Косухкин выступает как типичный представитель своей страты.
Итак, оправдывая то самое знаменитое письмо Ельцину в «Известиях» с призывом к репрессиям, г-н Косухкин пишет: «автор, очевидно, не знает или постарался забыть, какую угрозу для страны видели мы тогда в позиции, занятой Верховным Советом, его большинством во главе с Хасбулатовым». Здесь ключевые слова — «видели мы». То есть, говоря точнее — «нам казалось». Есть одно злое русское присловье: «Если кажется — креститься надо!» Говоря иначе, «нам казалось», «мы тогда видели» — это не объяснение. Это признание собственной некомпетентности.
Слава богу, уж что-что, а события сентября-октября 1993 г. я знаю хорошо. Я на эту тему две книги выпустил. И — хоть убейте! — не могу понять, какую такую «угрозу для страны» можно было увидеть в позиции Верховного Совета и Хасбулатова?!
 |
Что такое октябрьские события 1993 г.? Схватка двух противоборствовавших кланов номенклатуры, одинаково враждебных наемным работникам и одинаково далеких от народных нужд. Именно поэтому страна в целом практически не отреагировала на московские события. Разница между кланом Ельцина и кланом Руцкого и Хасбулатова заключалась лишь в том, что первые выражали интересы преимущественно компрадорской части новорожденного правящего класса — бюрократ-буржуазии, а вторые — преимущественно некомпрадорской части этого класса, то есть национальной бюрократ-буржуазии [19].
Да, конечно, большинство левых поддержало в этом конфликте Руцкого и Хасбулатова, что было, на мой взгляд, ошибкой и свидетельством опять-таки политического дилетантизма левых. Если Руцкой и Хасбулатов прибегали к просоветской риторике и т.п., то лишь потому, что оказались — в отсутствие политической «массовой базы» (такой, какая была у Ельцина и Гайдара в лице «Демократической России» и других «массовых демократических движений») — вынуждены делать реверансы в адрес советской власти и социализма. «Советский камуфляж» был нужен Руцкому и Хасбулатову исключительно для того, чтобы мобилизовать себе на поддержку достаточно организованных левых и сторонников ресоветизации, точно так же, как «националистический камуфляж» использовался ими для привлечения к себе националистов и крайне правых.
Те из левых, кто выступил в октябре 1993 г. на стороне Руцкого и Хасбулатова, просто не потрудились задуматься над вопросом: а какую классовую политику проводил бы, став президентом, Руцкой? Эти левые просто не удосужились вспомнить все, что они знали о Руцком и Хасбулатове и просчитать дальнейшие шаги их режима. Если бы они это сделали, то им бы стало очевидно, что в классовом отношении разницы между режимом Ельцина и режимом Руцкого быть не могло — пусть даже второй назывался бы «советским», а первый — «антисоветским» [20].
Невозможно, даже очень напрягая воображение, представить, в чем конкретно могла заключаться «угроза для страны» — по сравнению с режимом Ельцина — в случае победы Верховного Совета и установления режима Руцкого — Хасбулатова. В том, что, не будучи par exellence режимом компрадорским, он не позволил бы вывезти из страны 400 млрд долларов — а утекло бы на Запад вдвое или втрое меньше? (Что все равно бы утекло — можно не сомневаться.) В том, что, выражая интересы национальной бюрократ-буржуазии, он бы постарался не допустить такого обвального краха промышленности — во всяком случае, ее высокотехнологичных отраслей? (В том, что глубокий спад все равно бы имел место — можно не сомневаться.) Еще раз повторю: либералы-шестидесятники продемонстрировали чудовищный дилетантизм в политике — и этот самый дилетантизм они теперь предъявляют нам в собственное оправдание. Это детский сад. Взрослые люди так себя не ведут.
Поэтому заявление С. Косухкина о том, что якобы только глядя из будущего можно понять, что «подписанты» совершили в 1993 г. ошибку, не выдерживает критики. Взрослый человек должен уметь предвидеть результаты своих действий. Многие, кстати, в 1993 г. не поддержали ни Ельцина, ни Руцкого, поняв, что это — не наша война, и сознательно сказали и тем, и другим: «Чума на оба ваших дома!». Так, в частности, поступила практически вся наша страта. Но и за пределами нашей страты нашлось много таких, кто никаких писем с призывом к массовым политическим репрессиям не подписывал. Это во-первых.
Во-вторых, повторю, «подписанты» не раскаялись и не признали свои действия ошибкой. Только один-единственный человек — писатель Юрий Давыдов — позже сказал честно, что сделал глупость. Остальные либералы-шестидесятники и сегодня заявляют, что были правы.
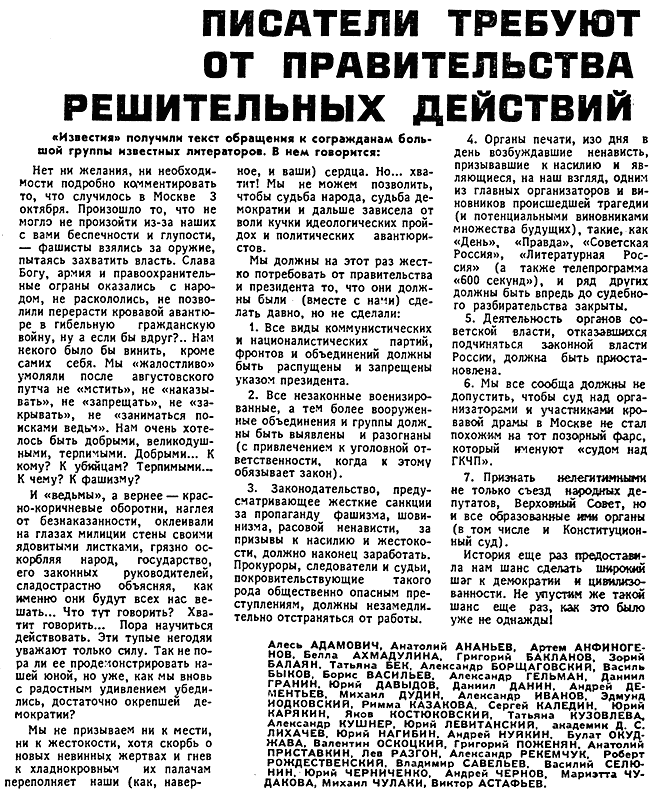 |
Нетрудно догадаться, чего «подписанты» боялись. Они боялись потери своего привилегированного положения — в первую очередь материального, которое обеспечивалось близостью к новой власти. Они привыкли обслуживать власть — и власть за это хорошо платила. Так повелось еще с советских времен. (Тут очень показателен знаменитый разговор между писателями Аркадием Васильевым (общественным обвинителем на процессе Синявского и Даниэля) и Виктором Шкловским после въезда в шикарный писательский дом на улице Черняховского: «А что, если грянет революция — и все это отнимут?» [21]) И они хорошо понимали, что у Руцкого с Хасбулатовым — свои кадры, свои подпевалы, свои идеологические проститутки.
Катастрофический (хотя, как только что было сказано, для многих шестидесятников корыстный) дилетантизм демонстрирует С. Косухкин, когда он повторяет типичный либеральный штамп о Ельцине — «гаранте демократии в России».
Смешно, ей-богу. Как это один человек может быть гарантом демократии? Что такое тогда вообще демократия?
Демократия (так же, как и диктатура) — всего лишь форма управления. Не более и не менее — и нет никакой нужды произносить это слово с придыханием. Либералы-шестидесятники, говоря о «демократии», имеют в виде всегда буржуазную представительную демократию. Но чем, собственно, буржуазная представительная демократия отличается от диктатуры? Только тем, что диктатура — это такая форма управления, при которой меньшинство открыто навязывает свою волю большинству или другим меньшинствам, а в буржуазной представительной демократии меньшинство навязывает свою волю большинству (или другим меньшинствам) скрыто, опосредованно, якобы с согласия самого большинства. В качестве механизма маскировки выступает система представительных учреждений.
С точки зрения политолога, сами по себе термины «демократия» и «диктатура» совершенно нейтральны и оценочной нагрузки не несут. С точки зрения практического политика, ценность демократии или диктатуры определяется исключительно их эффективностью. Если диктатура как форма управления в данное время и в данном месте эффективнее демократии — она лучше демократии. И наоборот. Эффективность же определяется тем, какие объективные задачи стоят в тот или иной период времени перед тем или иным сообществом (обществом, государством).
Буржуазная представительная демократия (как наиболее совершенный сегодня вариант представительной демократии — известны ведь и иные варианты представительной демократии, например, сословная) сама по себе есть лишь вариант классовой диктатуры (поскольку в любом классовом обществе и пока существует государство, всякая власть неизбежно есть диктатура, пусть даже и замаскированная). Просто современная буржуазная представительная демократия довольно успешно скрывает свой характер классовой диктатуры — во-первых, через механизм всеобщих выборов (то есть апеллируя к юридическому — но не фактическому! не имущественному! — равенству), во-вторых, через институты «гражданского общества» (СМИ, церковь, систему образования), которые находятся в руках правящих классов и с помощью которых правящие классы навязывают всему обществу свою систему взглядов, выгодные для себя представления об окружающей действительности и выгодные для себя представления о демократии.
Буржуазия настойчиво пытается навязать всем представление, что именно система представительной демократии и есть подлинная демократия [22]. Но демократия, как известно, переводится как народовластие. В системе же представительной демократии власть оказывается в руках не народа, а неких выборных лиц, представителей, депутатов. Народ, таким образом, передает (то есть отдает) им свое право на власть. Но если что-то одним субъектом отдано, передано другому — то первый субъект этого лишается. Исключением из этого общего правила является только знание. Политическая власть — это не знание.
Представительная демократия основана на ложной посылке: посылке презумпции компетентности избирателя, то есть на предположении, что всякий рядовой избиратель — это специалист в вопросах экономики и политики и потому он способен компетентно передавать свое право на власть (свой голос) представителю (депутату). Это ерунда. Рядовой избиратель — это слесарь, токарь, пекарь, врач, учитель, клерк, солдат, сантехник, зоотехник, инженер, стюардесса, секретарь-машинистка… взломщик сейфов, наконец. То есть он специалист совсем в другой области человеческой деятельности. Он не компетентен в политике. Его легко обмануть, дезинформировать, запутать, то есть его голосом легко манипулировать. Вся предвыборная борьба в представительных демократиях как раз имеет целью обман рядового избирателя — с тем, чтобы заставить его отдать свой голос за нужного кандидата (нужного той или иной группе правящего класса, поскольку только правящие классы обладают финансовыми возможностями для массового манипулирования сознанием избирателей и для внушения (то есть навязывания) избирателям необходимых образов и идей). Никакого отношения к установлению истины эта деятельность не имеет. Побеждает тот, у кого больше денег и кто более умело использует достижения специальных разделов психологии для обмана избирателей. Избирателю же — в силу его некомпетентности — можно внушить что угодно. К настоящему времени методики внушения отработаны так хорошо, что успех гарантирован заранее. Профессионалы этого, собственно, и не скрывают. Возьмите любой учебник по PR — и найдете там целые главы, прямо и откровенно инструктирующие, как именно нужно успешно обманывать и дурачить избирателя, рядового гражданина [23].
Все это очень хорошо понимал привычно ругаемый либералами Ленин, который, как известно, определял буржуазную представительную демократию как «право» угнетенного выбирать себе угнетателя из нескольких предложенных.
Сила буржуазной представительной демократии — в создании иллюзии соучастия, когда ответственность за действия власти перекладывается на все общество, на всех избирателей («но вы же сами избрали такую власть!»), — что, в свою очередь, создает видимость легитимизации власти.
Интересное дело! Свое право дышать наши либералы-шестидесятники не склонны делегировать кому бы то ни было. И если бы к ним кто-то обратился с таким предложением, они бы сочли этого человека или сумасшедшим, или редкостным негодяем. То же относится к праву есть и пить. И реализацию своего права на половую жизнь либералы-шестидесятники тоже, насколько мне известно, никакому своему представителю коллективно не делегируют. А вот право на власть — пожалуйста!
А ведь передавая кому-то право на управление — мы передаем ему, по сути, право на нашу жизнь. Передаем простым большинством голосов. Но ведь даже хирурга родственники больного не выбирают простым большинством голосов!
Единственная подлинная демократия, то есть народовластие — это прямая демократия, демократия участия, то есть такая, когда власть осуществляют все. Для этого, однако, необходимо уничтожение классового и имущественного неравенства, а также продуцирующих неравенство способов производства, а также государства как социального института — говоря иначе, нужен коммунизм. Более того, прямая демократия — это не право и не свобода (в современном — буржуазном — понимании), поскольку в случае прямой демократии снимаются дихотомии «право — обязанность», «свобода — необходимость». Там, где решают все, управляют все — во всех тех случаях, когда затрагиваются их интересы, — там все вынужденно должны быть компетентны, то есть быть специалистами в тех вопросах, которые они вынуждены будут решать, — и решать их придется в первую очередь исходя из общественных интересов и методом консенсуса. А это предполагает достаточную унификацию базовых интересов, предварительное согласие о ценностях и радикальное изменение психологии людей — такое, при котором каждый индивидуум, не переставая быть личностью, в первую очередь будет действовать как часть тотальности — человечества. Вот это и будет тоталитаризм (не такой «тоталитаризм», которым нас запугивают, как жупелом, либералы, а подлинный; и этот, подлинный, тоталитаризм предполагает всеобщую вовлеченность и тотальную взаимозависимость, власть всех над всеми; это — огромная ответственность и предельная (предельно возможная) свобода одновременно; это и есть — общество, основанное на Разуме, общество, в котором преодолено отчуждение; «царство свободы» в единственно возможной форме — в форме «царства позитивной свободы», где свобода и необходимость слиты воедино) [24].
А до тех пор, пока прямая демократия невозможна, самой честной позицией является позиция неучастия в балагане, в чужой игре, в шоу, — то есть в представительной демократии. Более того, такое неучастие делает вас морально свободными: если вы вообще не участвовали в выборах этой власти, не участвовали в «референдуме» по поводу этой конституции и т.п., у вас есть моральное право им не подчиняться, их игнорировать, с ними бороться.
Поэтому, когда Косухкин говорит, что на выборах 1996 г. Ельцин был «меньшим злом» — и потому страта либералов-шестидесятников голосовала за Ельцина (то есть против Зюганова), — у меня возникает вполне естественный вопрос: а почему вы всегда выбираете обязательно Зло (не важно, большее или меньшее)? Почему вы не выбираете Добро?
Какая вам разница, Зюганов у власти или Ельцин? Раз и то, и то — зло, то вы все равно — кто бы из них ни был президентом — обязаны бороться со злом. А если вы боитесь бороться — так не лезьте в политику вообще, даже на уровне журнальной полемики.
 |
Опять же непонятно, что такое особенно страшное умудрился увидеть г-н Косухкин в Зюганове. Зюганов — это все-таки не Гитлер, не Чингисхан, не Аттила, не Пол Пот. И КПРФ его — совершенно безобидная буржуазная партия; конечно, никакая не коммунистическая, а социал-демократическая с популистско-националистической окраской, что типично для стран «третьего мира». В Латинской Америке партии этого типа неоднократно находились у власти (например, в Перу и Аргентине) — и никаких катаклизмов не происходило [25].
Самоочевидно, что Зюганов и КПРФ не собирались ни массовые репрессии развертывать, ни частную собственность отменять, ни многопартийность упразднять, ни ядерную войну с США устраивать. Спрашивается, чего было их бояться? Очевидно, что либо в 1996 г. элита либералов-шестидесятников, прикормленная ельцинским окружением (за участие в предвыборной кампании Ельцина платили бешеные деньги: как рассказывает знакомый, работавший у Лисовского, гонорарная ставка тогда была «доллар за слово», причем — «черным налом», без уплаты налогов!), просто запугала всех остальных членов своей страты (в том числе и в Архангельске), пользуясь их некомпетентностью; либо за паническим ужасом перед Зюгановым скрывались элементарная лень и страх, что теперь придется тратить время и силы на борьбу с «коммунистами». Но в последнем случае надо не говорить о «большем» и «меньшем» зле, а честно выкрикнуть, как герой стихотворения Саши Чёрного:
Я русский обыватель — Я просто жить хочу!
Бог весть почему г-н Косухкин полагает, что я в 1996 г. «спал глубоким сном и только сейчас проснулся» или что моим кандидатом «был Зюганов». Как и все члены моей страты, я и в 1993-м, и в 1996-м не спал и ни на какие выборы не ходил, а занимался бойкотистской пропагандой (по причинам уже изложенным). Я вообще, как все мои товарищи, ни разу не участвовал в этом позорном балагане — выборах (даже в советский период, когда за это наказывали). Несогласие с навязываемыми тебе правилами игры начинается с бойкота выборов. Это — та моральная база, которая позволяет организовывать сопротивление, а не довольствоваться кукольной ролью «оппозиции Ее Величества». Участие же в парламентских играх неизбежно обрекает социалистов именно на такую роль. Сопротивление же от оппозиции как раз и отличается тем, что оппозиция принимает правила игры, заданные Системой, и пытается по этим правилам полностью изменить саму Систему (что по определению невозможно), а сопротивление не принимает эти правила, поскольку цель сопротивления — не усовершенствовать, а сокрушить Систему.
Вообще же обвинение в ретроспекции, брошенное мне Косухкиным, принять не могу: основная масса «Манифеста» — это теоретические вставки в текст моей книги «Очень своевременная повесть». Книга вся была написана 3 июня — 15 ноября 1996 г. (поэтому и в «Манифесте» много внимания уделяется этому периоду, писал бы я позже — писал бы больше о более свежих событиях). Тогда, в 1996—1997 гг., я долго не мог найти издателя для книги (издатели, вникнув в текст, шарахались от меня, как от прокаженного), наконец в 1998 г. один издатель пришел в восторг от книги — но тут грянул «дефолт». Так что книга вышла в свет только в конце 1999 г. [26] Я просил редакторов «Альтернатив» при публикации «Манифеста» сохранить даты написания текста, но мне ответили, что в журнале это «не принято». Если бы моя просьба была удовлетворена — часть претензий г-на Косухкина отпала бы автоматически.
Вернемся к «президенту — гаранту демократии». Вроде бы любому нормальному человеку очевидно, что эта формулировка содержит противоречие в определении: если демократия — это народовластие (власть всего народа), то один человек (будь он трижды президент) не может быть ее гарантом. Если носителем власти при демократии считается народ, то только он сам — народ в целом — и может быть гарантом демократии.
Но это — нам очевидно. Либералы-шестидесятники, как и полагается самонадеянным дилетантам, об этом не задумываются. Они, как я уже писал, привыкли еще с советских времен транслировать набор одобренных наверху идеологем, представляющихся правильными априори, без осмысления. Поскольку несть власти аще не от бога, и, стало быть, устами власти глаголет бог, а бог, по определению, всеведущ и потому не ошибается. Простая логика говорит, что в таком случае надо для объяснения своей позиции ссылаться на божественное откровение (Церковь так и делает, нейтрализуя тем самым всякую прагматическую дискуссию). Но С. Косухкин пытается найти оправдания: то в том, что Ельцин себя еще не разоблачил полностью (что это значит? — парламент еще не расстрелял? в Германии спьяну оркестром не дирижировал? в Шенноне в стельку не напился? Чеченскую бойню не устроил? к выборам 1996 г. все это уже было [27]), что Зюганов-де казался страшнее Ельцина, что «истинные сторонники социализма и демократии» в 1996 г. «не смогли предложить народу» «своего кандидата в президенты». Ну разумеется: вечно у обывателей виноваты кто угодно, кроме них самих!
 |
 |
Вообще же еще Р. Питерс заметил, что склонность людей к поиску оправданий автоматически означает, что эти люди систематически не справляются с работой, которая на них уже возложена ipso facto — то есть постольку, поскольку они существуют в обществе и вовлечены в общественное разделение труда [28]. К нашим либералам-шестидесятникам, судя по результатам их деятельности, это наблюдение применимо в полной мере.
Я уже писал о том, что «истинные сторонники социализма и демократии» (если имеется в виду истинная демократия, то есть демократия участия) и не должны были никого выставлять на президентских выборах, — это так же нелепо, как если бы евреи претендовали на должности начальников концлагерей в III Рейхе. Истинные сторонники социализма должны организовывать Сопротивление, а не пытаться встроиться во враждебную социализму систему. В «Манифесте» я, собственно, и говорил, что абсурдно рассчитывать на какой-либо успех в рамках ценностей Системы, соглашаясь с моралью прихвостней Системы, играя по правилам Системы, соглашаясь с «культурой» Системы, и что единственная возможность победить — это создать неподконтрольные Системе очаги Сопротивления, такие, какие Система не сможет ни уничтожить, ни ассимилировать. Поскольку уничтожение Сопротивления — вопрос в значительной степени технический, то важнейшей задачей становится создание противостоящих Системе культуры, морали, иерархии ценностей. Если они будут принципиально неассимилируемы, неинтегрируемы Системой — очаги Сопротивления, даже подавляемые, будут вновь и вновь воспроизводиться, как это было с революционным подпольем в царской России.
Именно поэтому, не будучи согласен полностью с позицией Адорно, я готов вслед за ним призвать к созданию морали Сопротивления [29] и провозгласить, что мораль только и возможна сегодня в форме Сопротивления [30].
Прочитав у г-на Косухкина панегирик «высокому искусству» вульгарнейшей Аллы Пугачевой, я, каюсь, не выдержал и воскликнул вслух: «Ну, воспитали Александр Николаевич Яковлев и его отдел пропаганды по всей стране достойную гвардию пропагандистов!» Взрослого человека, который не устыдился печатно прославлять торжествующую пошлость, конечно, бесполезно переубеждать. Во-первых, поздно. Во-вторых, неловко. В-третьих, бессмысленно, поскольку очевидно, что он не воспримет предложенных ему аргументов (еще древние говорили, что нет смысла полемизировать с тем, кто не согласен с тобой в самих основах, — contra principia negantem disputari non potest).
Но устами С. Косухкина говорит его страта. Это для них, либералов-шестидесятников, Алла Пугачева — «высокое искусство», это их страте она представляется «талантливейшей» и даже «экстравагантной порой до “запредельного”».
Вновь хочу зафиксировать реально существующую разницу в мировоззрениях наших страт. Для моей страты Пугачева — символ одобренной сверху низкопробности, символ мещанства на сцене. В отличие от вас, либералов-шестидесятников, мы сразу поняли, почему Альфред Шнитке в своей кантате «Легенда о докторе Иоганне Фаусте» именно Алле Пугачевой поручил петь арию Дьявола — «запредельное» (говоря языком Косухкина) мещанское танго, без преувеличения, порнографическое.
Мне вспоминается, что сказал о Пугачевой человек моей страты, замечательный педагог Саша Зуев. Саша в «годы застоя» создал несколько детских и подростковых клубов в разных городах Поволжья — и везде его травила местная номенклатура (в основном комсомольская). Претензии со стороны номенклатуры к Саше и его клубам были, кстати, очень интересные — он «допускал идейные отклонения»: пропагандировал «авантюризм» Че Гевары (а позже сандинистов; кто-то из не в меру грамотных комсомольских ублюдков даже поставил Саше в вину то, что СФНО входил в Социнтерн!), рассказывал о контркультуре, рок-музыке на «растленном» Западе, «охаивал» отечественную эстраду (разные ВИА) и даже «пропагандировал религию» (имелось в виду: знакомил своих ребят с рок-оперой «Иисус Христос — суперзвезда»). Когда Сашу выживали из одного города — он переезжал в другой (а клубы оставались — и некоторое время успешно сопротивлялись номенклатурной серости). При Андропове Сашу хотели «закрыть совсем» — но почему-то так и не закрыли. При Ельцине, в «новой, демократической России», Сашу убили уголовники — его подростковый клуб мешал им вовлекать молодежь в криминальный бизнес. И этот Саша Зуев сказал мне однажды, что после того, как Пугачева надругалась над Мандельштамом, он больше не воспринимает ее как человека — а только как какого-нибудь червя, глиста, аскариду. Помню, я был поражен яркостью и точностью формулировки.
Худшее, что можно сделать с поэтом, — это убить его стихи. И Пугачева сделала это с Мандельштамом. Г-н Косухкин что-то писал о покойниках, которые не могут сами защищать себя? Адресуйте этот упрек своей любимой Пугачевой! Это она изувечила, изуродовала, кастрировала великого поэта: из строфы «У меня еще есть адреса, / По которым найду мертвецов голоса» убрала слово «мертвецов»; заменила везде говорящее «Петербург» на нейтральное «Ленинград»; с чудовищной развязностью и характерной для эстрадных звезд-недоумков манией величия переделала «ты вернулся сюда» в «я вернулась сюда»; разбила две неразрывные финальные строфы «Я на лестнице черной живу, и в висок / Ударяет мне вырванный с мясом звонок» и «И всю ночь напролет жду гостей дорогих, / Шевеля кандалами цепочек дверных» упраздняющей их смысл строкой «Я вернулась в свой город, знакомый до слез»; наложила, наконец, все это на чудовищный кафешантанный мотивчик, — и одно из самых пронзительных стихотворений в нашей поэзии превратилось в идиотскую эстрадную песенку!
Г-н Косухкин выражал недовольство тем, какие я себе позволяю выражения в адрес разных «заслуженных лиц». Вообще-то, тем самым г-н Косухкин лишь демонстрирует присущее всей его страте авторитарное мышление и неистребимую филистерскую привычку к соблюдению приличий («главное, чтобы костюмчик сидел!»). Но в данном конкретном случае я готов с г-ном Косухкиным солидаризоваться. Писать разные слова о Пугачевой, надругавшейся над великим поэтом, — это, конечно, несерьезно. Англичане специально для таких случаев придумали поговорку: "Hard words break no bones". Г-жа Пугачева заслуживает возмездия. Нужно у этой «экстравагантной, но талантливейшей» вырвать язык и, объяснив подробно за что, отпустить: пусть до конца жизни помнит, что подлость наказуема. А главное — пусть это будет назиданием всем остальным. И я надеюсь, найдутся люди, которые сделают это.
Конечно, страта г-на Косухкина большая, «соратников» у него много. Моя двоюродная сестра, помню, рассказывала, как некогда занесло ее с подругами на фильм «Женщина, которая поет». Весь фильм они дико ржали. А окружающие на них так же дико косились. Наконец, дошел фильм до места, где Пугачева голосит какую-то песню, кажется, «Сонет Шекспира» [31]. По воспоминаниям моей сестры, это выглядело так: шаржированно «страдающая», с распущенными волосами, Пугачева выла за какой-то колонной — выглянет из-за колонны и завоет, потом с другой стороны колонны вновь выглянет — и опять завоет. Тут уж сестра с подругами совсем не выдержали: так зашлись, что с кресел сползли. И что же вы думаете — разгневанные зрительницы их вытащили из зала и отволокли в милицию! И что интересно: активные эти поклонницы Пугачевой были вполне «интеллигентными» женщинами-шестидесятницами — инженерами, бухгалтерами, одна даже преподавателем марксизма-ленинизма была! И — о, как они были свирепы в своем праведном гневе! Еще бы: все они, глядя на Пугачеву с колонной, слезами обливаются — а тут им какие-то суки своим смехом вместе с Пугачевой реветь не дают!
 |
А. Пугачева напрямую обслуживала интересы советской номенклатуры. Конечно, она не занималась грубой пропагандой «решений ЦК КПСС» и т.п. Но в этом и не было никакой нужды. У Пугачевой была та же функция, что и у кино в III Рейхе. По подсчетам Садуля, не более 10 % немецких кинофильмов времен фашизма носили хоть сколько-то выраженный пропагандистский характер [32], остальные 90 % выполняли не менее важную, с точки зрения геббельсовского Министерства пропаганды, задачу: примиряли население с действительностью, сеяли иллюзии, внедряли ложное сознание, отвлекали от борьбы с режимом, насаждали дурной вкус. Вот именно этим — в угоду советскому контрреволюционному режиму — и занималась Пугачева: сеяла иллюзии, внедряла ложное сознание, отвлекала от насущных задач освободительной борьбы, насаждала дурной вкус.
У дурного вкуса три опоры, образно говоря, три ноги: первая — эстетическая неразвитость, вторая — умственная неразвитость, третья — обыденное сознание, мещанский common sense. Поэтому, как всякий треножник, дурной вкус очень устойчив. И не устраним иначе, как целенаправленной борьбой с ним с помощью институтов власти. И если эстетическая неразвитость относительно легко преодолевается посредством образования и воспитания, то мещанский «здравый смысл» можно победить, только ликвидировав само мещанство. Большевики свою схватку с мещанством проиграли: мещанство в 1927—1937 гг. ликвидировало их самих. Последствия этого мы наблюдали и наблюдаем последние 70 лет. Отсюда вывод: тот, кто хочет победить, должен тщательно изучить опыт большевиков — и не отвергать большевизм, а напротив — усвоить его и, усвоив, преодолеть — чтобы не повторить большевистских ошибок, не дать мещанину вновь задушить себя [33].
Конечно, большевики были ограничены в инструментарии, к какому они могли прибегнуть. Конечно, они не могли сделать того, что было объективно невозможно: построить социализм, не имея для этого никаких предпосылок. Конечно, всякая буржуазная революция (суперэтатистская — в случае Великой Российской революции) проходит объективные стадии — и за стадией революционной диктатуры следует стадия Термидора [34]. Но если сравнивать Великую Российскую революцию с Великой Французской, мы будем поражены глубиной радикальных изменений, длительностью самого революционного процесса, мощью конструктивного импульса, который получила страна в период революционной диктатуры — на десятилетия вперед, и, наконец, той степенью легитимности, которая была задана именно новыми принципами легитимации: только в 90-е, спустя 75 (!) лет после начала Революции, контрреволюционная власть смогла отказаться от нового принципа легитимности, предложенного большевиками, — а Реставрация (политическая реставрация, реставрация монархии) не наступила и по сей день. И все это — несмотря на то, что через 10—20 лет после начала Революции мелкая буржуазия (преимущественно крестьянского происхождения) в союзе с интеллектуалами (клерками, бюрократией) вырезала революционеров-интеллигентов.
Одной из трех опор дурного вкуса является, как я писал, умственная неразвитость. Это опять-таки неустранимое — без целенаправленного вмешательства властных структур — препятствие на пути прогресса человечества вообще. Мы в целом — как популяция — умнее первобытного человека, но не умнее среднего человека, скажем, XIX в. И рассчитывать на какие-либо изменения под воздействием одного только НТП абсурдно: западный опыт показывает, что не умственно ограниченное общество оказывается вынужденно умнеть под воздействием НТР, а, напротив, НТР заставляют работать для того, чтобы это общество, не умнея, могло пользоваться плодами НТР и вписываться в новую — новую по технологиям — экономику. Типичный пример: компьютеризация. Всепобедивший Windows был разработан именно для нужд умственно ограниченного общества: США в процессе компьютеризации столкнулись с тем фактом, что 1/3 занятых в «народном хозяйстве» функционально неграмотна. Нельзя заставить продавца работать на компьютере, если он «грамотен» настолько номинально, что практически не способен понять смысл текста. Поэтому слова в Windows были заменены иконками, то есть картинками. Картинки распознает и запоминает даже неграмотный. Одновременно по той же причине была сведена к минимуму роль клавиатуры, и основная командная нагрузка возложена на «мышь»: передвинуть курсор «мыши» к нужной иконке может и неграмотный.
Если исходить из того понимания свободы, которое принято стратой либералов-шестидесятников (то есть негативного понимания свободы, свободы от), то сделать так, чтобы человечество (или даже население «одной отдельно взятой страны») поумнело, невозможно. Поскольку это невозможно без евгенических действий: ликвидации алкоголизма и наркомании, например. А либералы-шестидесятники свято уверены, что у них есть право, скажем, вволю пить водку (любимое дело у целой страты! — так же, как «расписывать пульку», заводить интрижки, трепать языком на кухне и вопить дурным голосом на поляне у костра «Месяц бродит по лесным дорожкам») — и плодить затем умственно отсталых отпрысков. И покушение на это «право» — это, с точки зрения «шестидесятников», покушение на «демократические свободы», то есть «репрессии» (вспомним, какой вопль страта г-на Косухкина подняла по поводу горбачевской кампании «борьбы с алкоголизмом»!).
Западные коллеги г-на Косухкина идут еще дальше, добиваясь легализации наркотиков, бесплатной их раздачи наркоманам и введения для тех наркоманов, кто хотел бы избавиться от наркотической зависимости, метадоновой программы (хотя метадон — это точно такой же наркотик, и разница между, скажем, героином и метадоном только в том, что с героина еще можно «соскочить», а вот с метадона «соскочить» практически невозможно). Западные коллеги г-на Косухкина распространяют понятие «свободы» и еще дальше. Например, нельзя (собственно, и по нашему законодательству тоже) принудить человека сдать анализ на ВИЧ-инфекцию. То есть даже если человек знает, что он — носитель ВИЧ, пока это не подтверждено добровольно сданным анализом, он формально не ВИЧ-инфицирован. Замечательные либералы распространяют свое «право» калечить собственных детей алкоголем и наркотиками и на СПИД: Европейский суд в Страсбурге рассматривает иск некоей больной СПИДом женщины из Великобритании, которая возмущена тем, что медики хотят обследовать на ВИЧ-инфекцию рожденного ею ребенка. Поскольку грудной ребенок не может дать согласие на обследование (или отказаться), то, стало быть, врачи не имеют права покушаться на его свободы — в частности, на свободу болеть СПИДом и умереть от него! [35]
Это я опять к вопросу о разных моралях.
Своей некритической защитой фигур, знаковых для страты шестидесятников — Яковлева, Лихачева, Аверинцева, Аксенова, — защитой символов страты, а не реальных людей — наряду с одновременным восхвалением Пугачевой — Косухкин четко маркировал уровень развития своей страты (по Мих. Лифшицу). Напомню, что писал Лифшиц (лучше самого Лифшица не скажешь — формулировки у него четкие и ясные):
Существуют три ступени вкуса и духовного развития вообще. Первую ступень образует наивный реализм простого человека, который интересуется искусством, поскольку оно похоже на жизнь, требует умения, занимает ум и создает приятные эмоции. Это художественное сознание воскресного посетителя картинной галереи. Вторая ступень возвышается над первой. Тут мы имеем дело уже с самосознанием человека, который считает себя знатоком искусства или хочет им быть. Главная его забота — отделиться от первого этажа, от наивного реализма… Вторая ступень культуры вкуса легко может стать достоянием обывателя-сноба с его дешевым скептицизмом, горделивой уверенностью в том, что истина существует не сама по себе, что вся она в устремлениях субъекта и в условных коммуникациях посвященных лиц. Не следует обольщаться интеллигентностью этой мнимой элиты. Она еще недалеко ушла от полного невежества, утратив его девственную свежесть. Несмотря на свое презрение к толпе наивных реалистов и «вкусу пожарных», по известному французскому выражению, эта промежуточная духовная позиция сама может стать и легко становится психологией образованной толпы, стереотипом обывательского чванства [36].
Г-н Косухкин, как и вся его страта, пребывает именно на второй ступени развития. И подняться на третью им не дано.
С. Косухкин с таким жаром отреагировал на «Манифест» потому, что эта статья посвящена интеллигенции (он, собственно, сам признается, что именно статьи «о роли интеллигенции в жизни общества» привлекли его внимание в № 3 «Альтернатив»). И С. Косухкин, относящий себя, безусловно, к интеллигенции, счел себя оскорбленным. Все это — плод недоразумения. «Манифест» является статьей, парной к моей статье «Десятилетие позора. Тезисы обвинительной речи», опубликованной в журнале «Свободная мысль-XXI» [37]. Меня не раз уверяли, что читательская аудитория «Альтернатив» и «Свободной мысли» совпадает процентов на 70. На примере откликов С. Косухкина и В. Арсланова я убедился, что это не так. Едва ли читательская аудитория этих двух журналов совпадает больше, чем на 20—25 %.
Поэтому Косухкин, понятно, не знает, что я настаиваю на разграничении терминов «интеллигент» и «интеллектуал». Интеллектуал — это клерк, чиновник, «статусный интеллигент», узкий специалист в непромышленной (как правило) области (в том числе в области образования, управления, пропаганды, информационных технологий), зачастую работающий по найму, зарабатывающий на жизнь умственным трудом — таким, какой нужен власть имущим. То есть интеллектуал — это человек, который занимается преимущественно умственным трудом, но не всяким умственным трудом, а только таким, какой не противоречит классовым интересам правящих слоев и классов в классово разделенном обществе. Зав. отделом ЦК А.Н. Яковлев или академик Д.С. Лихачев — это именно интеллектуалы: они получали зарплату за место работы — ставку. То есть оплачивалась должность, а не человек.
То, что интеллектуалы по традиции именуются у нас «интеллигенцией», — это ошибка.
 |
Интеллектуалы (в отличие от интеллигенции) существовали всегда — с тех пор, как возникло общественное разделение труда. Первыми интеллектуалами были шаманы (колдуны, жрецы) и знахари (как правило, обе профессии совмещались). Более того, хотя бы отчасти интеллектуалами являются все люди (как минимум, все, занятые в общественном производстве). Об этом говорил Грамши: «в любой физической работе, даже наиболее механической и черной, существует некий минимум созидательной, интеллектуальной деятельности» [38]. И далее:
На этом основании можно было бы утверждать, что все люди являются интеллигентами (здесь, как и в других случаях у Грамши, термин «интеллигент» надо переводить как «интеллектуал». — А.Т.), но не все люди выполняют в обществе функции интеллигентов (так, о том, кто жарит себе яичницу или пришивает заплату на куртку, не скажут, что он является поваром или портным) [39].
И хотя рекрутировались интеллектуалы из разных слоев общества, но в первую очередь, разумеется — из правящих слоев, поскольку деятельность интеллектуалов была подчинена задачам сохранения и укрепления власти имущих: интеллектуалы, говорит Грамши,
служат «приказчиками» господствующей группы, используемыми для осуществления подчиненных функций социальной гегемонии и политического управления, а именно: 1) для обеспечения «спонтанного» согласия широких масс населения с тем направлением социальной жизни, которое задано основной господствующей группой, — согласия, которое «исторически» порождается престижем господствующей группы …, обусловленным ее положением и ее функцией в мире производства; 2) для приведения в действие государственного аппарата принуждения, «законно» обеспечивающего дисциплину тех групп, которые не «выражают согласия» ни активно, ни пассивно; этот аппарат, однако, учрежден для всего общества на случай таких критических моментов в командовании и управлении, когда спонтанное согласие исчезает. Результатом такой постановки проблемы является очень большое расширение понятия интеллигента (интеллектуала. — А.Т.), но только таким путем можно достигнуть конкретного приближения к действительности [40].
Все правящие слои и классы производили — для своих нужд и интересов — интеллектуалов, и чем дальше — тем во все возрастающих количествах, создавая тем самым интеллектуалов, клерков как социальный слой. СССР не был исключением. Пресловутая «советская интеллигенция» была на самом деле слоем (слоями, если точнее) специально созданных интеллектуалов — клерков, бюрократов, пропагандистов, специалистов в разных областях и т.д. Г-н Косухкин, как советский журналист, прямо относится к этому слою. Гордиться тут абсолютно нечем. Сам по себе С. Косухкин может быть — и даже, наверное, так и есть — добрейшей души человеком, чутким и внимательным к окружающим и т.п. Но как социальный субъект — как советский интеллектуал — он был лишь частью машины по одурачиванию населения СССР, по психоинформационному подавлению его в интересах правящей социальной группы (совпартхозноменклатуры). При этом личная доброта С. Косухкина уже абсолютно никакого значения не имела. К. Лоренц указывал, что именно добрейшие отцы семейств, которые в частной жизни и муху обидеть не в состоянии, не дрогнув, осуществляли ковровые бомбардировки, лишая жизни тысячи человек [41], — когда осуществляли свою социальную функцию технического специалиста (интеллектуала). Знаменитый эксперимент Милграма как раз и показал, что исполнение формальной роли специалиста (т.е. интеллектуала), помноженный на конформизм (согласие с установленными «сверху» правилами), является вполне достаточным условием для превращения современных европейски образованных и в обычной жизни гуманных индивидов (в случае эксперимента Милграма — в основном университетских преподавателей и студентов) в садистов и палачей [42].
Грамши обратил внимание на то, что первой массовой группой интеллектуалов были служители церкви, которые, как он писал, узурпировали «в течение длительного времени (на целую историческую эпоху, которая и характеризуется частично этой монополией) некоторые важные области общественной деятельности: религиозную идеологию, то есть философию и науку эпохи, включая школу, воспитание, мораль, правосудие, благотворительность, общественную помощь и т.д.» [43]. Не случайно — это отмечает и Грамши — само слово «клерк» (синоним слова «специалист», «интеллектуал» в европейских языках) возникло из слова «клирик» (лат. clericus — «духовное лицо»; Грамши, впрочем, ссылается на более ему близкое ит. chierico — «духовное лицо», а также «специалист», особо отмечая, что антонимом ему является laico — «мирянин», «невежда», «неспециалист» [44]). Служители церкви в общественном обиходе играли роль современных пропагандистов (журналистов, как г-н Косухкин) — и эта роль представлялась правящему классу Средневековья настолько важной, что духовенство было уравнено в правах с феодалами и даже, как особо подчеркивает Грамши, пользовалось «государственными привилегиями, связанными с собственностью» [45].
Возвращаясь к эксперименту Милграма, укажу, что именно церковники — интеллектуалы позднего Средневековья — создали первый в мире институт политической полиции и идеологического преследования — Инквизицию, прообраз всех позднейших политических полиций вплоть до гестапо и НКВД.
Строго говоря, сегодняшний интеллектуал — это образованный и особо «утонченный» мещанин, мещанин куда менее примитивный, чем классический, но все равно мещанин [46]. И хотя некоторые теоретики склонны были полагать, что интеллектуалы неизбежно вступят в социальный (классовый) конфликт с буржуазией (Элвин Гулднер, помнится, даже приводил 5 объективных причин «неизбежности» такого конфликта), я все же — вслед за Марксом, Грамши, Гэлбрейтом, Беллом и Хомским [47] — склонен полагать, что интеллектуал как был, так и останется слугой капитала, а конфликт, если он даже разразится, будет лишь спором за то, какую часть власти и денег оттяпает себе элита интеллектуалов у традиционных правящих классов (ср. уравнение в правах церковной элиты со светской в Средневековье).
В конце концов, интеллектуал (это, кстати, ясно продемонстрировало поведение советских интеллектуалов, ошибочно именуемых «интеллигенцией», во время «перестройки») как владелец, собственник информации в отдельных областях народного хозяйства (то есть специалист) ничем не отличается от бюрократа (тот также — владелец информации) и не покушается на материальную собственность (заводы, шахты, банки). Следовательно, по мере увеличения роли информации в современном производстве, по мере информатизации современного производства интеллектуалы могут лишь требовать предоставления себе более привилегированного положения, чем раньше, то есть куска власти — в соответствии с объективными изменившимися обстоятельствами.
Конфликт между традиционным собственником — буржуазией — и интеллектуалами не антагонистичен. Интеллектуалы не претендуют на изменение способа производства. Поэтому, полагаю, они способны найти компромисс с любой властью — хоть фашистской — и будут, как и полагается обывателю, не столько требовать (тем более, с оружием в руках), сколько просить. Профессор Вандербильтского университета Д. Лакс в своей статье «Интеллектуалы и мужество» называет по меньшей мере две причины коллективной трусости современных интеллектуалов:
Первая из них была хорошо выражена Бендой в утверждении о том, что сегодня все хотят бежать вперед вместе с толпой. Стремление быть или по крайней мере казаться неотличимыми от всех остальных оказывает на нас огромное влияние. Люди, зарабатывающие на жизнь интеллектуальным трудом, точно так же, как и все остальные, ощущают безопасность и комфорт, возникающие при слиянии с группой, при высказывании одобряемых всеми догм и предрассудков. При этом вся эта апологетическая деятельность направлена на то, чтобы убедить друзей и работодателей в том, что сами интеллектуалы, в конце концов, просто «обычные люди» — не более того. Дни великих английских чудаков давно прошли. Возможно, они и могли позволить себе не заботиться о том, что о них думают другие; для нас даже причудливость и та подчинена единым для всех законам.
Вторая причина, по которой мыслящие люди отказываются от критики, это, к сожалению, страх. Большинство из нас даже незначительное беспокойство за себя заставляет забыть о преданности чему бы то ни было. Люди, занятые в интеллектуальной сфере, … хотят чувствовать себя в безопасности, успешно работать и, как они сами говорят, заботиться о своей семье. Дело в том, что они понимают, что критика ведет к наказанию, и они не ведают идеи, за которую они согласились бы пострадать. Великие идеи человечества это ведь всего лишь абстракции. С другой стороны, реальная телесность и живые, отнюдь не абстрактные чувства действительно приносят боль [48].
Профессору виднее: он сам принадлежит к интеллектуалам и хорошо знает то, о чем пишет.
Теперь об интеллигенции и ее отличии от интеллектуалов.
Интеллектуалы — это общественный слой, а интеллигенция — это общественное явление.
Интеллигенты занимались (и занимаются) поиском объективной истины (то есть подлинного знания), в то время как интеллектуалы занимаются умственным (интеллектуальным) трудом, необходимым в данное время власть имущим. Этот поиск может быть как научным (левополушарным, логическим, рациональным), так и художественным (правополушарным, интуитивным, образным, основанным на инсайте). Поскольку знание является (в отличие от информации) общественной собственностью, интеллигент выражает интересы общества в целом (о претензии интеллигенции на выражение не узкоклассовых или узкосословных интересов, а в целом общественных много писали — как правило, с осуждением, доходящим до издевательства) — в частности, общественный интерес человечества в получении объективного знания. Поэтому лишь тогда, когда объективное знание стало приносить прибыль (то есть в период возникновения капитализма), и появилась интеллигенция как более или менее заметное явление. (Феодализм вполне довольствовался религиозной картиной мира [49].)
Поэтому интеллигент, как правило, занимается умственным трудом, он тесно связан со слоем интеллектуалов, зачастую является выходцем из этого слоя. Но это — единственное, что их объединяет, подобно тому, как одинаковое имя было единственным, что объединяло реально существовавшего Фридриха Энгельса и никогда не существовавших бесплотных персонажей иудео-христианско-мусульманской мифологии. Но если интеллектуал как владелец информации, ее собственник может быть успешно включен в классовую структуру и выступать в роли эксплуататора (со-эксплуататора), то интеллигент как носитель знания не может это знание «приватизировать», а напротив, может лишь его распространить, поделиться им, сделать его всеобщим. То есть интеллигент вынужденно выступает в роли Просветителя (и Освободителя — поскольку, как мы помним, «истина делает человека свободным»).
Именно потому, что Истина объективна (то есть не зависит от классовых, сословных, клановых, религиозных и т.п. интересов), интеллигент является носителем критического мышления и как таковой неизбежно противостоит конформизму и мещанству. Обо всем этом я уже писал в статье «Десятилетие позора» [50].
Но если физик может поставить лабораторный эксперимент, логик — мысленный эксперимент, поэт — эстетический или лингвистический эксперимент, то в области социальных наук установление истины возможно только в форме социального эксперимента. Отсюда — революционная (в политическом смысле) роль интеллигенции, сплав интеллигенции с революцией. Если бы, например, русские интеллигенты не посвятили себя революционному движению, не организовали его и не возглавили — не победила бы Революция 1917 г. Если бы она не победила, мы бы, вероятно, так и не знали до сих пор, что при сохранении индустриального способа производства одновременно с упразднением частной собственности возникает не социализм, а суперэтатизм [51]. Можно было создать сколько угодно теорий, доказывающих это, но на каждую такую теорию нашлась бы контртеория — и истина не могла быть установлена до тех пор, пока не был бы поставлен социальный эксперимент. Величие интеллигентов-большевиков именно в том, что они такой эксперимент поставили, — ценой собственных жизней.
Интеллигент, таким образом — это агент будущего в настоящем (прошлом), поскольку он является представителем уже неиндустриального способа производства — такого, какого еще нигде нет, и черты которого только-только начинают проступать сегодня в контурах роботизации и компьютеризации [52]. Этот способ производства, как мы все знаем из Маркса, основан на знании, знание при нем выступает в качестве непосредственной производительной силы. И по мере того, как знание (= объективная истина) все более и более становится производительной силой, все большее и большее число вовлеченных в производство людей (в основном интеллектуалов) получает шанс стать интеллигентами (даже если они сами этого не осознают).
В современном капиталистическом обществе власть имущие, с одной стороны, заинтересованы в существовании интеллигентов (в той степени, в какой неизбежно существует заинтересованность в получении подлинного знания о мире), но с другой — враждебны интеллигентам и заинтересованы в превращении интеллигентов в интеллектуалов (то есть в засекречивании подлинного знания). Отсюда — широкий подкуп работников умственного труда, установка на все более узкую специализацию, расцвет масскульта и оккультизма. Огромные деньги, тратящиеся сегодня на пропаганду, на «промывание мозгов», на манипуляцию сознанием — это свидетельство страха власть имущих перед уже накопленным объемом подлинного знания. Все эти механизмы «гражданского общества», которые ранее в таких объемах не существовали, направлены на изоляцию населения от подлинного знания, на то, чтобы забить все каналы доступа к знанию псевдознанием, ложной информацией, «белым шумом».
Почему именно в России удалось совершить антибуржуазную революцию? (Прошу отметить, я ставлю не вопрос, почему в 1917 г. в России произошла революция, — на этот вопрос ответил Ленин своей теорией о «слабом звене». Я ставлю вопрос, почему антибуржуазная революция удалась?) Именно потому, что в России наряду со слоем интеллектуалов существовала численно с ними сравнимая интеллигенция.
Широко распространено мнение, что интеллигенция — это вообще специфически русское явление. Некоторые даже убеждены, что иных точек зрения не существует. Например, Н.Е. Покровский из МГУ пишет: «Интеллигенция — понятие чисто российское (с этим согласны, кажется, все), не имеющее прямых параллелей в иных культурах» [53]. Отчасти в возникновении и распространении такой точки зрения виноваты сами русские интеллигенты (например, Степняк-Кравчинский, который пропагандировал эту концепцию в своих работах, адресованных западной аудитории) [54]. Хотя уже в XIX в., например, Вера Засулич показала, что наиболее последовательные французские и немецкие революционеры эпохи буржуазных революций были совершенно типичными интеллигентами [55] — и даже специально указывала на факт преодоления этими французскими интеллигентами-революционерами узких классовых рамок буржуазной революции:
К чему стремились идейные представители великой буржуазной революции? Во всяком случае не к господству и благополучию современной буржуазии. Прежде чем окончательно вымерло их поколение, его остаткам удалось познакомиться с более или менее определившимся уже типом нового господствующего класса и с одним из лучших образцов нового строя при конституционной монархии Луи-Филиппа. И старики отвернулись с презрением от своих довольных сыновей, возненавидели новый строй, мешались в заговоры и шли умирать на баррикады вместе со студентами и рабочими [56].
В своей работе, написанной к 100-летию Великой Французской буржуазной революции (т.е. к 1889 г.), и Карл Каутский целую отдельную статью (главу) посвятил интеллигенции и ее роли во Французской революции [57]. Правда, из текста следует, что Каутский тоже под «интеллигенцией» понимал именно интеллектуалов (в первую очередь, буржуазных интеллектуалов), но и Каутский не мог не отметить, что среди этих буржуазных интеллектуалов выделилась группа, преодолевшая классовую ограниченность:
Интеллигенция стала выше ограниченной, погруженной в свои гешефты буржуазии; ее занятия развили в ней способность к обобщениям и логическому мышлению, они дали ей знание общественных и политических отношений прошлого и настоящего… Руководствуясь не своими личными, временными интересами, действуя на основании глубокого понимания общественных отношений, добытого путем многолетней работы мысли, представители … интеллигенции выступали в качестве защитников не материальных интересов, а отвлеченных принципов чистых идей, они являлись «доктринерами» перед лицом капиталистических «практиков», которые, гордясь своим невежеством, стремились заставить государство служить своим временным практическим, корыстным целям [58].
Профессиональный антикоммунист, не вылезающий со страниц «Русской мысли», Ален Безансон так поднаторел в своих антикоммунистических штудиях, что тоже вынужден был признать, что интеллигенция — не специфически русское, а общемировое явление:
Можно заметить, что явление это должно было появиться прежде во Франции, в конце Старого порядка, и в Германии эпохи романтизма. Среда журналистов из числа левых гегельянцев, республиканцев Июльской монархии заслуживает, по аналогии, того же наименования.
В XX веке явление приобрело планетарный размах: оно отмечено в Латинской Америке, в Африке, в Китае, в арабском мире.
Вот уже целое тридцатилетие интеллигенция, в развитых западных странах лишь промелькнувшая (Франция Третьей республики, Германия Вильгельма), либо вовсе не существовавшая (Соединенные Штаты, Япония, Англия), распространяется все шире и шире [59].
Добавлю, что Безансон забыл еще Турцию, Иран, Индию, Цейлон (Шри Ланку), Корею и страны Юго-Восточной Азии.
Можно сказать, что всё это — страны так называемой капиталистической периферии, то есть страны, где формирование капитализма запаздывало, происходило медленнее, чем в странах капиталистической метрополии. И тот факт, что именно в них, а не в странах метрополии интеллигенция возникла в таком количестве, что стала заметным социальным явлением, объясняется общностью исторической ситуации, в какой оказались страны периферии. Интеллигенция как заметное («массовое») социальное явление вообще есть явление откровенно преждевременное до такой (поздней) стадии развития капитализма, когда простое машинное производство начинает активно вытесняться автоматизированно-машинным и простой физический труд — умственным трудом.
То, что интеллигенция как явление оказалась присуща всем (или почти всем) странам капиталистической периферии, странам «запаздывающей модернизации» — свидетельство естественности этого феномена. Говоря иначе, вопрос до сих пор ставился неверно. Надо спрашивать не «почему интеллигенция возникла в России» или «почему интеллигенция возникла в странах периферии», а почему она не возникла (как социальное явление, а не в лице отдельных представителей) в странах метрополии.
Полагаю, в первую очередь это надо связывать с объективным уровнем развития промышленности — и конкретно с тем, насколько эта промышленность нуждалась в науке. В эпоху Великой Французской революции этот уровень (и, следовательно, нужда промышленности в науке, в объективном знании) был откровенно низким (в еще большей степени это относится к Американской революции [60]). Следовательно, и социальный слой, из которого в первую очередь выходили интеллигенты — слой интеллектуалов, — был исключительно мал, не достигал еще той критической массы, при возникновении которой начинается формирование внутри этого социального слоя интеллигенции как социального явления. Тот же Каутский отмечал, что «научно образованному технику почти что нечего было делать в промышленности прошлого (XVIII. — А.Т.) века» [61].
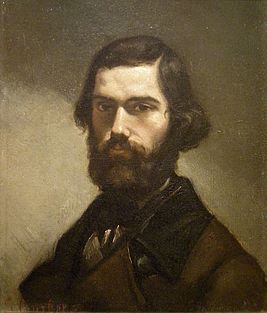 |
Ко времени революции 1848 г. можно уже смело говорить о возникновении во Франции интеллигенции — достаточно прочитать автобиографическую трилогию Жюля Валлеса [62], типичного французского интеллигента-революционера и незаслуженно (и, я убежден, сознательно) замолчанного писателя, преодолевшего в своем творчестве многие «родовые грехи» современной ему французской литературы (велеречивость, экзальтированность, патетичность и сентиментальность, которыми страдают даже такие выдающиеся писатели, как Гюго, Стендаль и Бальзак, не говоря уже об обоих Дюма, Жорж Санд и «малых романтиках»). Но как раз из книги Валлеса хорошо видно, какой численно незначительной, в прямом смысле слова маргинальной, слабой и бессильной была эта интеллигенция. А если почитать мемуары Анри Рошфора [63] — станет очевидным, что даже ко времени Парижской Коммуны и даже в рядах республиканской оппозиции преобладающим типом был интеллектуал, а интеллигенты смотрелись среди интеллектуалов как вкрапления, как небольшие островки [64]. Причем это относится не только к среде, традиционно именуемой «интеллигенцией», но ко всем интеллектуалам вообще — и к военным, и к чиновничеству. Подобно тому, как лучшие представители российского офицерства оказывались в рядах «Народной воли», офицеры-интеллигенты во Франции становились членами карбонарских вент. Точно такие же вкрапления интеллигентов обнаруживались и в среде рабочих и ремесленников. Ремесленник Фюжер, выдающийся оратор, распропагандировавший Эжена Сю, тративший почти все свободное время на штудии в области социальных наук и погибший на баррикаде, — типичный пример такого интеллигента [65]. Интеллигенты из рабочей среды даже больше бросаются в глаза — по контрасту — чем интеллигенты из образованной среды. Не случайно интеллигент Бланки, по происхождению и статусу типичный интеллектуал (сын чиновника, студент, зарабатывавший затем на жизнь преподаванием и журналистикой), на своем первом процессе 1832 г. и позже при помещении в тюрьму на вопрос «профессия» ответит: «Пролетарий» [66].
Если же обратиться к предыдущим буржуазным революциям — к Английской и Голландской, — то эти революции вообще протекали в форме религиозных войн. О какой интеллигенции тут в принципе может идти речь? [67]
Одновременно и само развитие науки не достигло еще такой стадии, когда объем накопленного объективного знания выглядел бы достаточно авторитетным в глазах общества в целом и позволял бы к себе апеллировать и на себя опираться, провоцируя тем самым превращение многих интеллектуалов (и не только) в интеллигентов. Вспомним, что даже якобинцы, которые, придя к власти, осуществляли мероприятия, объективно выходящие за рамки задач буржуазной революции, не смогли отказаться от религии, а максимум, на что рискнули, — это ввели по инициативе Робеспьера культ Верховного Существа. И судьба этого культа была плачевна: даже для восходящего класса — буржуазии — такой шаг оказался слишком уж явным забеганием вперед.
Сравните это с действиями большевиков, которые уже откровенно и сознательно (как и подобает материалистам) выступали против религии и церкви.
Страны капиталистической периферии, как ни странно это прозвучит, оказались в выигрышном по сравнению со странами метрополии положении: когда на «периферию» пришел капитализм, он пришел уже в виде таких образцов промышленности, которые требовали большого числа интеллектуалов, и на такой стадии развития науки, на какой наука уже могла обоснованно претендовать на уважение со стороны общества в целом.
Страны периферии сразу же перенимали самые последние, наиболее развитые образцы научных, художественных, философских достижений метрополии — и значительная и наиболее развитая часть интеллектуалов периферии, естественно, не могла найти себя, реализовать себя в условиях отсталости в странах периферии.
В то же время общественный ландшафт в странах метрополии был уже выровнен бездушным катком промышленной революции, капиталистической индустриализации — и население уже было искусственно загнано в прокрустово ложе строго прагматического ранжира: банкир, промышленник, торговец, пролетарий, фермер, интеллектуал (и всё, что за пределами этого — люмпен). Одновременно и интеллектуальные кадры в метрополиях — в Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии — активно высасывались соответствующими колониальными империями (в викторианской Англии каждый третий мужчина служил в Индии, каждый второй — в колониях). Как раз в тех странах капиталистической метрополии, где индустриализация запоздала, а крупные колониальные империи не были сформированы (или уже были утрачены) — в Италии, Испании и Австро-Венгрии — интеллигенция оказалась представлена гораздо заметнее, чем в «классических» странах метрополии.
В странах же периферии, помимо прочего, докапиталистические институты всё развивались и усложнялись, а общество еще не было выровнено катком промышленной революции — и к моменту прихода капитализма там уже сложился избыточный для капитализма постфеодальный мир — и, в частности, сформировались относительно благополучные (материально) слои, ориентированные на последние научные, идеологические и художественные достижения мировой цивилизации, но уже знающие — на примере стран метрополии — обо всех вопиющих противоречиях, социальных язвах, моральных и экономических недостатках капитализма. И эти слои породили заметный слой работников умственного труда (или потенциальных работников умственного труда), которые не находили себе места в реальной экономике (не могли реализовать себя) и, естественно, относились к такой ситуации резко критически.
Правда, тот же А. Безансон решительно отвергает сам факт невостребованности этого слоя (во всяком случае, в России). «В сфере интеллектуального труда безработицы не было, разве что добровольная, — пишет он. — Неправда, что существовало перепроизводство выпускников университетов. Это мнение было широко распространено в то время, но оно ошибочно. Стоило только студенту захотеть, и он без труда находил себе и место работы, и положение» [68]. Этим замечанием Безансон лишний раз продемонстрировал умственную ограниченность и мещанский дух типичного интеллектуала. Ему и в голову не приходит, что найти свое место в обществе, реализовать себя — это совсем не то же самое, что найти себе заработок! Народники, скажем, заработок находили без труда. Дело было не в этом. Дело было в чудовищной несопоставимости талантов, дарований, возможностей интеллигентов с тем, что им предлагала царская Россия. Что готова была дать Россия гениальному ученому Кибальчичу? Место инженера-путейца, не более того. А чем должен был бы заниматься Ленин? Банальными мелкими уголовными и гражданскими судебными делами. С женщинами — еще хуже. Выдающийся организатор, оратор и публицист Вера Фигнер могла рассчитывать только на место фельдшера или акушерки без всяких шансов на «продвижение по службе». Для того, чтобы Софья Ковалевская могла реализоваться как ученый, она должна была эмигрировать из России. И т.д., и т.д.
Но и относительно не «добровольной», а вынужденной безработицы среди лиц интеллектуального труда А. Безансон нас обманывает. Эта тема хорошо изучена. Существует множество свидетельств, опровергающих ложь А. Безансона. Тот же Степняк-Кравчинский посвятил немало страниц перечислению фактов созданной правительством безработицы среди работников умственного труда. Чего стоит такой факт: за должность земского врача соревновалось до 80—90 безработных дипломированных медиков [69]. Или такой: «В 1881 г., когда по всей стране вспыхнули эпидемии, уничтожившие крестьянский скот, в печати сообщалось, что более 100 ветеринарных врачей, не имеющих должности, тщетно обращались в Министерство внутренних дел, так как земства отказывались предоставлять им работу» [70].
 |
Надо учитывать также, что в царской России интеллектуальный труд вовсе не гарантировал достойное существование (даже и в материальном смысле). Многие врачи, например, из-за отсутствия мест устраивались на работу фельдшерами — на 15—16-часовой рабочий день без выходных и на такую мизерную зарплату, что ее не хватало на жизнь [71]. Врачи оказывались вынуждены подолгу работать, не получая жалования. Вересаев в своих знаменитых «Записках врача» так прямо и писал: «В каждой больнице работают даром десятки врачей; те из них, которые хотят получать нищенское содержание штатного ординатора, должны дожидаться этого по пяти, по десяти лет» [72]. Нищета учителей была фактом общеизвестным. Жалование народного учителя было так смехотворно мало, что он не мог себе позволить завести семью [73]. Жалование часто задерживали на полгода и больше. Когда в 1901 г. в Новгородской губернии умерла от голода учительница сельской школы А.Н. Еремеева, выяснилось, что таких голодающих учителей еще 11 тысяч [74].
При этом объективно в России существовала большая нужда в учителях — 73 % населения старше 9 лет к 1917 г. было неграмотно (это в целом, а в деревне в Европейской России неграмотность превышала 80 %, а среди женщин — 90 %; в Средней же Азии грамотно было лишь 6 % населения) [75]. Стыдно сказать, даже в столице, Санкт-Петербурге, и даже среди промышленного пролетариата (а в начале XX в. в крестьянской России рабочий класс можно было смело именовать опережающим классом — и Революция 1917 г. это подтвердила) к 1914 г. элементарно грамотных было лишь 82 % среди мужчин и 56 % среди женщин [76]. В 1911 г. Россия занимала по числу учащихся на 1000 человек населения 22-е место среди европейских стран, а по расходам на нужды просвещения — 15-е место [77]. При этом надо иметь в виду, что в 1911 г. в Европе было гораздо меньше стран, чем сейчас — всего 25, включая Монако, Сан-Марино, Андорру и не менее отсталую, чем Россия, Турцию, которая к тому же еще и воевала в 1911 г. с Италией (а во время войн социальные расходы всегда снижаются). Даже заслуженный борец с коммунизмом Р. Пайпс признает, что в царской России в 1901 г. начальная школа охватывала лишь 4,5 млн детей из имевшихся 23 миллионов, и констатирует:
До 1917 года в России не было системы обязательного образования даже на уровне начальной школы, какая была внедрена во Франции в 1833 году и которую к 70-м годам прошлого века восприняло большинство западноевропейских стран. Необходимость создания такой системы часто обсуждалась в правительственных кругах, но дальше разговоров дело не продвинулось отчасти ввиду больших расходов, которые потребовало бы осуществление этих планов (так в тексте. — А.Т.), отчасти же из опасения пагубного влияния, какое мирские учителя … могли оказать на сельскую молодежь [78].
Еще более впечатляет подборка фактов, сделанная В.Г. Хоросом:
Уже в XII в. во всех французских городах и во многих деревнях существовали школы и “школки”, где преподавались (для бедных зачастую бесплатно) primitivae scientiae et artes — умение писать, читать и считать с прибавлением начал латинской грамматики. В Англии XIV в. историки фиксируют от 300 до 400 средних классических школ. Во Флоренции XVI в. практически все население было грамотно. Указ об обязательном начальном образовании издается в Пруссии еще в начале XVIII в. [79]
Не меньше Россия нуждалась и во врачах. Степняк-Кравчинский писал:
У нас числится один врач на 6400 жителей — в 4 раза меньше, чем в Англии, и в 10 раз меньше, чем в Америке. А если исключить обе столицы, поглощающие пятую часть всех врачей, остается лишь один врач на 8 тыс. жителей. В губернских городах тоже оседает большая и, разумеется, лучшая часть врачей; в Харьковской губернии, например, из 200 медиков 123 практикуют в Харькове, а из остальных 86 только 20 постоянно живут на селе. В некоторых губерниях имеется всего только один врач на 47—50 тыс., а то и на 73 тыс. жителей. Официальная статистика показывает, что из каждых 100 умерших 93 никогда не показывались врачу; только 7 % получали какую бы то ни было медицинскую помощь [80].
Власти в России искусственно сдерживали просвещение, образование и оздоровление социальных низов — и интеллигенция это прекрасно видела и понимала [81].
Наверное, есть смысл прислушаться и к словам Грамши, который обращал внимание на то, что в деревне интеллектуал, во-первых, помимо своей воли оказывается вовлечен в политику, а во-вторых — является предметом зависти и подражания для крестьянина (который мечтает и старается сделать так, чтобы хоть один из его детей стал интеллектуалом) [82]. Говоря иначе, в менее индустриализованных странах сам факт наличия большого сельского сектора провоцирует превращение части интеллектуалов в интеллигентов. При этом речь идет, разумеется, о традиционном, унаследованном от феодализма сельском секторе. Там, где сельский сектор сразу строился как капиталистический — фермерский, — там интеллигенция оказывалась крайне малочисленна, слаба и интеллектуально несамостоятельна (в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии). Грамши никак не мог понять, почему так мала и слаба интеллигенция в США — и развита в Латинской Америке [83], — а причина именно в этом различии в характере сельского сектора.
Очевидно, справедлива и широко распространенная точка зрения, связывающая расцвет в России интеллигенции (это относится, как легко заметить, и к другим странам, например, к Китаю, или Ирану, или Турции) со слабостью «гражданского общества». «Гражданское общество» — это атрибут буржуазного общества, это общество частных лиц, частных интересов и частного капитала. Вопреки всяким красивым словам о «гражданском обществе», институты «гражданского общества» — печать, церковь, школа — всегда контролируются правящими классами и выполняют роль инструмента духовного подавления, насильственно внедряя в сознание населения идеологию (идеологии), выгодные правящим классам и даже саму картину мира, выгодную правящим классам [84]. Там же, где механизмы духовного подавления слабы или несовершенны, образовываются естественные ниши для возникновения крупных отрядов структурной оппозиции — в первую очередь, для формирования иной, противостоящей преобладающей в обществе, системы ценностей. Русская интеллигенция потому, собственно, и оказалась в состоянии победить царизм, что смогла выработать собственную, не совпадающую с «общепринятой», систему ценностей — и построила на этой системе свою идеологию. С этого момента интеллигенция стала духовно неуязвима. Власть могла интеллигенцию загнать в подполье, в эмиграцию, в тюрьмы и ссылки — но не могла переубедить. Власть могла подкупить часть интеллигенции (превратив эту часть в интеллектуалов) — и даже заставить ее включиться в борьбу с революцией, — но отнять у революционной интеллигенции ее систему ценностей власть была не в состоянии.
Существует расхожее мнение, что в основе системы ценностей российской интеллигенции лежит «народолюбие» — то есть идея служения народу, преклонение перед народом, доходящее иногда до обожествления, чувство вины перед народом, основанное на понимании того факта, что привилегированное положение интеллигенции материально обеспечивается тяжелым трудом угнетенного народа. Традиционным и для советских, и уж тем более для зарубежных антикоммунистических авторов является определение этой основы системы ценностей русской революционной интеллигенции как «проявления утопического сознания» [85]. Это — наклеивание ярлыков, а не научный подход. Надо понимать, что в XIX в., когда русская интеллигенция вырабатывала свою систему ценностей, наука не только не накопила еще достаточного количества объективного знания в области социальных дисциплин, но не было даже адекватного научного языка. Там, где русский интеллигент говорил: «народ», надо понимать: «общество». Основа системы ценностей, выработанной интеллигенцией — это именно забота о благе общества, об общественном прогрессе. В России XIX в. подавляющее большинство населения было крестьянским населением, и именно крестьян традиционно имели в виду (все, не только революционеры-интеллигенты), когда говорили «народ» (а вот слово «общество» означало «образованное общество», то есть дворянство + чиновничество + духовенство + интеллектуалы; а иногда даже означало «высший свет», «высшее общество» — ср. выражение «принят в обществе»). Интересы подавляющего большинства населения России — т.е. крестьянства, т.е. «народа» — объективно совпадали с интересами общества в целом, с интересами общественного развития России. При таких условиях тот факт, что интеллигенты XIX в. подменили термин «общество» термином «народ», выглядит вовсе не «проявлением утопического сознания», а вполне адекватным шагом (с учетом тогдашнего языка науки). Точно так же и термин XIX в. «герои и толпа» на самом деле означает «политический авангард общественного слоя (класса) и подавляющее большинство общественного слоя (класса)». Поразительно, что таких простых вещей не понимают известные советские ученые, членкоры и академики!
Понимание того, что невозможен действительный общественный прогресс без освобождения общества в целом, без прогресса общества вообще, а не только отдельных его слоев или классов, — это не «утопия», а именно адекватное научное понимание проблемы. А «служение народу» объективно именно это и означало [86]. Всё остальное — это либо проституирование, прислуживание интересам правящего класса (правящих слоев), либо решение личных проблем, улучшение личной судьбы (то, что Маркс называл «освобождением за спиной общества, частным путем» [87]). Адорно, хотя он и не относился к русским народникам-«утопистам» XIX в., сформулировал этическое понимание свободы точно так же: «Свобода … обязательно предполагает свободу для всех, то есть совершенно немыслима … какая-то изолированная свобода отдельного человека без освобождения всего общества» [88].
Это же понимание можно обнаружить даже у Жана-Поля Сартра и Симоны де Бовуар, хотя они, в отличие от Адорно, даже не «франкфуртцы» (а всего лишь, как и Адорно, интеллигенты): «…стремясь к свободе, мы обнаруживаем, что она целиком зависит от свободы других людей и что свобода других зависит от нашей свободы… как только начинается действие, я обязан желать вместе с моей свободой свободы других; я могу принимать в качестве цели мою свободу лишь в том случае, если поставлю своей целью также и свободу других» [89]; «Свобода может осуществиться только через свободу другого… Условием моей собственной свободы является … свободное существование другого» [90]. В данном случае перед нами лишь выраженная иным — экзистенциалистским — языком вполне «марксистская» максима — неизбежная, поскольку она порождена объективным знанием.
Интеллигенция, как я уже писал, является агентом будущего в прошлом (настоящем). Это относится не только к способу производства. Это относится и к вопросу о классовой принадлежности. Интеллигенция потому и не может быть включена в классовую структуру современного общества, что является в классовом обществе представителем бесклассового общества. По этой же причине каждый интеллигент персонально — раз он должен принудительно относиться к какому-то существующему в индустриальном обществе классу (слою) — формально является еще и членом какого-то существующего сейчас класса (слоя) — обычно интеллектуалов, но не обязательно. (Отсюда, кстати, проистекает широко распространенное — и не только среди собственно интеллигентов — понимание, что интеллигентность (философское содержание понятия «интеллигент») вовсе не совпадает с формальным статусом человека, занимающегося интеллектуальным трудом. Это понимание настолько уже стало общим местом, что оно обнаруживается практически у каждого автора, который пишет об интеллигенции — начиная с К. Каутского [91] и кончая А.Ф. Лосевым [92], — и это говорит об объективно существующем различии между интеллигенцией и «интеллигенцией» (т.е. интеллектуалами): попробуйте-ка, например, заявить, что буржуазность не имеет никакого отношения к буржуазии! Эта терминологическая неясность и прежде и теперь сильно мешала и мешает адекватному пониманию роли интеллигенции в обществе. Скажем, именно она сделала бессмысленной полемику, инициированную известной статьей А. Блока «Интеллигенция и народ». Каждый из участников полемики понимал под «интеллигенцией» нечто свое, не совпадающее с пониманием других авторов. Подводящая итоги полемики статья «Стихия и культура» показала лишь то, чего и следовало ожидать: что при ненаучности, неясности и несогласованности терминов всякая дискуссия неизбежно заходит в тупик [93]. Сегодня мы понимаем, что термин «народ» — ненаучен, что «просто» народа нет (если речь не идет о населении), что нужно говорить о классах и социальных группах. Точно так же и разведение понятий «интеллигенция» и «интеллектуалы» должно наконец поставить вопрос об интеллигенции на научную основу.)
Поскольку интеллигент представляет в классовом обществе общество будущего, общество бесклассовое, он неизбежно выступает представителем интересов общества вообще, человечества вообще. Но в классовом обществе бесклассовых интересов не бывает. Следовательно, для того, чтобы адекватно представительствовать собственный интерес, интеллигент вынужден бороться за ликвидацию классового общества. Отсюда — революционное поведение интеллигента и его традиционное участие в политической борьбе на стороне прогрессивных (в историческом смысле) сил.
Отсюда же — постоянные инстинктивные надклассовые претензии интеллигенции, (которые самими представителями интеллигенции, более рационально подходящими к реальности, чем их восторженно настроенные товарищи, постоянно высмеиваются). Можно сказать, что система ценностей интеллигенции — это как раз система общечеловеческих ценностей. Об «общечеловеческих ценностях» нам прожужжали все уши певцы капитализма и либерализма в годы «перестройки» — бичуя пролетарских революционеров как носителей и пропагандистов «ограниченных» классовых ценностей. Однако общечеловеческие, бесклассовые ценности возможны только в бесклассовом обществе, в «общечеловечестве», где большие группы населения не будут иметь отдельных, противостоящих друг другу интересов. То есть подлинный интеллигент обязан бороться за установление бесклассового общества (коммунизма). А это, как известно, невозможно без ликвидации частной собственности на средства производства, индустриального способа производства и государства.
Там, где мы говорим о ценностях, там мы говорим о морали. Если высшей ценностью интеллигенции является общественное благо («благо народа»), то в реальном классовом обществе мораль интеллигенции не может не быть моралью борьбы. Борьбы за будущее бесклассовое общество, где только и возможно общее благо. Таким образом, мораль впервые встает на рациональную основу: нравственно то, что приближает бесклассовое общество, в котором осуществимо благо всех, — и безнравственно то, что этому препятствует. Так что Ленин, которого последние 10 лет все, кому не лень, шельмуют за «аморализм» (за фразу «нравственно то, что служит делу рабочего класса»), на самом деле внес выдающийся вклад в дело развития этической мысли, поскольку вывел мораль из области религиозных «аксиом» в область науки. Если «нравственно то, что служит делу рабочего класса», то, следовательно, нравственность или безнравственность того или иного действия выводится из сферы слепой веры в область дискуссии и проверки. При таком подходе — если бы он последовательно проводился — невозможно было бы оправдать, скажем, сталинские репрессии: для этого нужно было бы сначала доказать в открытой дискуссии, что физическое уничтожение авангардной партии рабочего класса в России служит интересам рабочего класса. Доказать это невозможно. Поэтому при Сталине, естественно, не было никаких дискуссий, а были приказ и вера. По этой же причине было наложено табу на попытки выработать новую, революционную мораль — и общество было насильственно возвращено к старой, по сути своей религиозной, морали, ханжеской и показной, обслуживающей интересы правящего класса.
Рабочий класс, к интересам которого апеллировал Ленин, в первую очередь — как класс — заинтересован в ликвидации своего статуса рабочего класса, пролетариата, в ликвидации своего статуса класса — наемного труженика. Это возможно только через социальную революцию, через ликвидацию индустриального способа производства, основанного на частной собственности и на наемном труде. Таким образом, ленинский постулат, внешне выглядящий как апология классовой морали, в действительности является примером применения диалектики, использованием бесклассовой, общечеловеческой, научно обоснованной морали в превратной, патологической ситуации классового общества.
Выдающимся достижением русской интеллигенции явилось то, что она смогла навязать свои взгляды значительной части интеллектуалов, заставить интеллектуалов именовать себя «интеллигенцией», и, как минимум, считаться с системой ценностей и моралью интеллигентов. Вплоть до пресловутых «Вех» (апологии интеллектуального мещанства) интеллектуалы не делали попыток коллективно открыто выступить против системы ценностей интеллигентов, а, раздавленные моральным превосходством интеллигенции, всего лишь, как писал Блок, старались «находить всевозможные увертки для того, чтобы сделать свою жизнь независимой от воспитания и образования; чтобы школа и книга оставались сложенными сами по себе в каком-то месте … души на всякий случай, а жизнь шла сама по себе и была загружена той законной и естественной, с точки зрения людей, ложью, подлостью и грязью, которые действительно составляют содержание жизни среднего человека наших дней» [94].
В Европе или в Америке в XIX — начале XX в. престижно было считаться собственником — и собственники (буржуа и аристократы) демонстрировали снисходительное презрение к людям, зарабатывавшим себе на жизнь своим талантом: «щелкоперам», «писакам» (поэтам, прозаикам, публицистам), художникам, актерам, «книжным червям» (ученым), музыкантам. В России престижно было числиться интеллигентом. Все — от полицейского и до уголовника — норовили записаться в «интеллигенты» [95].
Эта путаница с понятием «интеллигент» в России влекла за собой, безусловно, помимо отрицательных, и положительные последствия. Александр Блок, например, довольно далекий от круга революционной интеллигенции, к своему пониманию роли интеллигента пришел не только силой поэтического прозрения, но и, безусловно, под воздействием интеллигентской среды, революционной интеллигентской мысли (в «Трех вопросах» Блок прямо ссылается на Михайловского) [96]. Блок так далеко продвинулся в своем понимании роли интеллигенции, что даже осознал (пусть и выразил это невнятно, поэтически) ее характер агента будущего в настоящем (призвав слушать «великую музыку будущего» и провозгласив революционера принадлежащим «другому времени и другому пространству») [97].
Когда в знаменитой статье «Интеллигенция и Революция» Блок описывает интеллигента, становится предельно ясно, что он пишет не о социальном слое (интеллектуалах), а именно о социальном явлении — интеллигенции: «У интеллигента … ценности не вещественны. Его царя можно отнять только с головой вместе. Уменье, знанье, методы, навыки, таланты — имущество кочевое и крылатое. Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи, — что же нам терять?» [98] Но когда затем Блок стыдит «русскую интеллигенцию», становится ясно, что он стыдит именно интеллектуалов, по-мещански трусливых и заносчивых одновременно:
Русской интеллигенции — точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки. Не стыдно ли издеваться над безграмотностью каких-нибудь объявлений или писем, которые писаны доброй, но неуклюжей рукой? Не стыдно ли гордо отмалчиваться на «дурацкие» вопросы? Не стыдно ли прекрасное слово «товарищ» произносить в кавычках?
Это — всякий лавочник умеет [99].
Такое возможно только в ситуации морального превосходства интеллигента над интеллектуалом, когда этика и система ценностей интеллигенции настолько подчинили себе образный мир всего образованного сообщества России, что само слово «лавочник» (как и слово «мещанин») стало восприниматься как ругательство. Только в такой морально-интеллектуальной атмосфере у Блока может вызвать боль и ненависть российская рыночная действительность, эксплуатирующая (в его понимании — опошляющая) его поэзию:
Как по команде, они (проститутки. — А.Т.) приобрели шляпы с черными страусовыми перьями и стали на разные голоса приставать к прохожим:
— Я — Незнакомка. Хотите познакомиться?
— Угостите Незнакомку! Я прозябла.
— Мы пара (!) Незнакомок. Можете получить “электрический сон наяву” [100].
Если бы Блок сам себя считал не интеллигентом, а руководствовался бы другой моралью — моралью интеллектуалов, — он бы, наоборот, гордился такой известностью, всячески на нее ссылался и требовал бы от издателей повышенных гонораров!
Чем же обеспечила русская революционная интеллигенция свое моральное превосходство? Жертвенностью.
 |
О жертвенности русской интеллигенции написано много. Пример людей, пожертвовавших личной карьерой (иногда даже вполне достойной с точки зрения интеллигенции — научной [101]), благополучным существованием, семейным счастьем — и сознательно выбравших «имя славное народного защитника, чахотку и Сибирь», а то и эшафот, неопровержим, поскольку переводит всякую полемику из области теоретической в область практическую. Частные примеры по конкретным случаям — такие как пожертвование Лизогубом или Войнаральским своего имущества (немалого!) на дело революции, — это лишь варианты, демонстрирующие многообразие форм такой жертвенности, примеры того, каким может быть самопожертвование. (Войнаральский, кстати, заплатил за свои убеждения десятилетней каторгой, Лизогуб — жизнью.) Другим таким примером самопожертвования является испытание врачами-интеллигентами на себе медицинских препаратов и вакцин и прививка себе инфекционных заболеваний.
Принцип жертвенности гарантировал предварительный отбор среди тех, кто выбирал судьбу интеллигента. Поскольку интеллигент одновременно вынужден был принадлежать к какому-то классу или сословию, «отсев» из интеллигентов был неизбежен и, естественно, постоянно наблюдался (только политзаключенный был, так сказать, интеллигентом в чистом виде — ему не надо было маскироваться, да и Система не давала ему такой возможности). Но известны ведь и обратные примеры — возвращения в ряды интеллигенции тех, кто эти ряды покинул. И это не было связано с «моральным террором», вопреки антиреволюционной пропаганде (А. Безансон описывает такой «моральный террор» очень красочно: «Молодого человека, который вздумал бы жениться, получить наследство, поступить на какую-то службу, чаще всего обливали презрением, насмешками, обвинениями в карьеризме и обуржуазивании» [102]. Если бы это было правдой, в России никто бы из образованных людей не женился, все бы отказывались от наследства, а государственный аппарат бездействовал бы по причине тотального дефицита кадров — и царизм рухнул бы еще в середине XIX в.! Но таким, как Безансон, плевать на истину — им не за это платят [103].) Просто человек, принявший систему ценностей интеллигента, даже отступив, сдавшись, деградировав, часто не мог полностью от этой системы отказаться.
Жертвенность задавала стиль жизни, ориентируя в первую очередь на моральные, интеллектуальные, художественные, научные поиски и превращая в норму аскетизм. Знаменитый «бунтарь» Дебогорий-Мокриевич вспоминал, что во времена его народнической молодости студенты «почти гордились бедностью» [104]. Студентов из аристократических семей, кичившихся своим богатством, повсеместно презрительно звали «белоподкладочниками». В.В. Берви (Н. Флеровский) рассказывал о Вере Засулич, что «у нее на душе всегда было такое множество страдальцев, что у нее никогда в жизни, кроме долгов и плохого платья, ничего не бывало; как только ей в руки попадали деньги, она немедленно всё раздавала» [105]. С другой стороны, и сам Берви, по словам Софьи Перовской, проповедовал добровольную бедность «словно апостол библейский» [106]. Кропоткин вспоминал, что члены кружка «чайковцев» принципиально тратили деньги (а у них было много денег) именно на «расходы по печатанью и перевозке книг, укрывание товарищей, разыскиваемых жандармами, и на всякие новые предприятия», и поэтому еда кружковцев «неизменно состояла из черного хлеба, соленых огурцов, кусочка сыра или колбасы и жидкого чая вволю» [107]. Нравственные качества «чайковцев» произвели на Кропоткина неизгладимое впечатление:
Никогда впоследствии я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первом заседании кружка Чайковского. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью [108].
Журналист Л. Оболенский рассказывал о том, какое впечатление произвел на него ишутинский кружок:
Зимой 1865 года я близко знал такой кружок (состоявший из очень богатых людей, по больше части юных помещиков Саратовской губернии), который поселился в садовой беседке (беседка, конечно, была с рамами и стеклами; стеклянные двери отворялись прямо в сад, без сеней. Холод был страшный). Отоплялась эта беседка небольшой железной печью, в которой постоянно приходилось поддерживать огонь, чтобы не замерзнуть. Только один из этой компании, страдавший наследственными ранами на ногах и самый молодой из всех (ему было в то время 19 лет), некто Е-в (П.Д. Ермолов. — А.Т.) спал на железной кровати, поставленной в углу. Остальные спали вповалку на матрасах, положенных прямо на пол. В этой беседке жило 7 человек. Самому старшему Ю. (Д.А. Юрасову. — А.Т.) было около 24 лет. Один из компании К. (Д.В. Каракозов. — А.Т.), как самый сильный, взял на себя обязанность приносить воду и готовить обед. Весь обед состоял из хлеба и кусков говядины, которую жарил К. на сковороде, помещаемой на ту же чугунную печку, заменявшую плиту. Впрочем, и эта роскошь была дозволена себе ими впоследствии, по приказанию врача: сперва они решили питаться одной колбасой с хлебом, но через неделю у всех развились различные болезни желудка. Пришлось обратиться к доктору, и вот почему режим был изменен.
Трудно поверить теперь, что всё это делалось ради принципа. Но это было именно так: в одно из моих посещений этой знаменитой беседки я видел в небольшом кожаном саквояже, висевшем над постелью Е., шестнадцать тысяч рублей его собственных денег, назначенных на общественное дело [109].
Ишутинец И. Худяков так писал о кружке:
Эти люди отказались от всех радостей жизни и с самоотвержением молодости посвятили себя делу народного освобождения. Ермолов пожертвовал с этой целью всем своим состоянием (около 30 000 р.с.) [110].
Кропоткин вспоминал:
Вся Россия читала с удивлением во время процесса каракозовцев, что подсудимые, владевшие значительными состояниями, жили по три, по четыре человека в одной комнате, никогда не расходовали больше, чем по десяти рублей в месяц на каждого, и все состояние отдавали на устройство кооперативных обществ, артелей, в которых сами работали. Пять лет спустя тысячи молодых людей, цвет России, поступили так же [111].
Так закладывался канон системы ценностей, морали, образа жизни интеллигента. Даже Ленин (хотя он не жил в коммунах и не сидел десятилетиями в Шлиссельбурге) был типичным носителем морали, системы ценностей и образа жизни интеллигента. Сошлюсь на мнение Луиса Фишера (мнение тем более показательное, что Фишер — идеологический противник Ленина и марксизма вообще):
Лично нечестолюбивый, сдержанный вплоть до аскетического самоотречения (он бросил играть в шахматы, потому что они поглощали слишком много времени), он жил не ради себя и не ради жены или друзей, а ради идеи. Он был монахом-марксистом. Но идея его не имела ничего общего с религиозным идеалом или видением. Картины розового рая на земле не трогали его — он не испытывал ничего, кроме презрения, к утопистам, мечтавшим об утопии без изъянов. Он был военным политиком. Как хороший главнокомандующий, он планировал полный разгром неприятельской армии, а не только захват ее укреплений [112].
Другой политический и идеологический противник Ленина и марксизма, известный эмигрантский историк Георгий Вернадский, сам — выходец из среды интеллигентов — тоже описывал личные качества Ленина и его сподвижников как типичные для интеллигенции, особо указывая на аскетизм, скромность, личное и политическое мужество и «беззаветную веру в правильность своего политического идеала» [113]. Интересно, что Г. Вернадский тоже путает понятия «интеллигенция» и «интеллектуалы», хотя и констатирует несомненный факт отличия русской интеллигенции от западных интеллектуалов: «Русские интеллектуалы представляли собой исключительный социальный феномен. Во многих отношениях они сильно отличались от образованных классов Западного мира. Интеллигенция образовала в России особый класс со своим собственным мышлением и теоретическими интересами, мало связанными с повседневной жизнью других классов общества. «Интеллектуалами» (или «интеллигенцией») обычно называли людей, получивших высшее (в редких случаях среднее) образование, либо развившихся самостоятельно путем самопознания и общения с высокообразованными личностями» [114]. Как видим, Г. Вернадский тоже не понимал планетарного характера такого явления, как интеллигенция, и тоже способствовал насаждению мифа, будто интеллигенция — это специфически русское явление.
Политические противники Ленина в рядах социал-демократии, старые меньшевики, которых наблюдал в эмиграции уже в 60-е гг. XX в. Леопольд Хеймсон, поддерживали стиль жизни, типичный для русских революционных интеллигентов начала века [115] и резко разошлись с эмигрантами «второй волны» именно потому, что обнаружили в них типичных представителей мещанства, мелких буржуа по психологии [116]. При этом Хеймсон отметил, что окончательный разрыв меньшевиков с предшествующей революционной традицией (и с большевиками) относится к периоду после революции 1905 г. — и вызван был именно отходом меньшевиков от традиционных ценностей русской революционной интеллигенции: от жизни (и борьбы) в подполье, от кодекса профессионального революционера, от особой, отличной от господствующей, морали, от тактики самопожертвования (самосожжения) — и переориентацией на классический западноевропейский вариант политической жизни интеллектуалов (легальность, парламентаризм, работа в профсоюзах и т.п.) [117]. Добавлю от себя, что эта переориентация ни к чему, кроме полного политического краха меньшевизма, не привела.
Даже Блок мыслил в тех же категориях — категориях жертвенности, самоотречения: «Или гибель в покорности, или подвиг мужественности… Подвиг мужественности должен начаться с послушания» [118].
Комплекс идей, выработанных русской интеллигенцией, легко обнаруживается у тех ее представителей, кто уцелел в репрессиях 30-х гг., независимо от последующей их политической и философской эволюции. В качестве примера можно привести статью «Искусство и ответственность» М.М. Бахтина [119].
Вот и А.Ф. Лосев, которого в последние годы активно пытаются записать в «последнего представителя русской религиозной философии» (так сказать, недобитого «веховца»), демонстрирует такое понимание роли интеллигенции, которое ничем принципиально не отличается от «канона», выработанного русской революционной интеллигенцией в конце XIX в., но зато совершенно не совпадает с «веховской» моралью и жизненной философией интеллектуалов, их modum vivendi и modum operandi. «Жизнь индивидуума, — утверждает Лосев, — есть жертва» [120]. С точки зрения Лосева, «интеллигентен тот, кто блюдет интересы общечеловеческого благоденствия. Интеллигент живет и работает в настоящее время так, как в будущем станет жить и работать человек в условиях общечеловеческого благоденствия» [121]. Говоря иначе, Лосев понял роль интеллигента как агента будущего в настоящем.
Далее Лосев пишет:
Культурную значимость интеллигентности, всегда существующей среди общественно-личных и природных несовершенств, в наиболее общей форме можно обозначить как постоянное и неуклонное стремление не созерцать, но переделывать действительность (прямо-таки Маркс, 11-й тезис о Фейербахе! — А.Т.). Интеллигентность, возникающая на основе чувства общечеловеческого благоденствия, не может не видеть всех несовершенств жизни и не может оставаться к ним равнодушной. Для этого интеллигенту не нужно даже много размышлять. Интеллигентность есть в первую очередь естественное чувство жизненных несовершенств и инстинктивное к ним отвращение. Можно ли после этого допустить, что интеллигент равнодушен к несовершенствам жизни? Нет, здесь не может быть никакого равнодушия. У интеллигента рука сама собой тянется к тому, чтобы вырвать сорную траву в прекрасном саду человеческой культуры (просто Ким Ир Сен! — А.Т.). Культура интеллигенции, как того требует само значение термина «культура», включает переделывание действительности в целях достижения и воплощения заветной и тайной мечты каждого интеллигента работать ради достижения общечеловеческого благоденствия (т.е. коммунизма. — А.Т.). …интеллигентность не есть просто вооруженность, но и готовность вступить в бой. А чтобы вступить в бой, надо ориентироваться в общественно-исторической обстановке. Но так как подобная ориентация требует уже критического подхода к действительности, то интеллигентность свойственна только такому человеку, который является критическим мыслящим общественником (чем это хуже Маркузе? — А.Т.). Интеллигент, который не является критически мыслящим общественником, глуп, не умеет проявить свою интеллигентность, то есть перестает быть интеллигентом [122].
Лосев употребляет вместо слова «жертвенность» слово «подвиг», но смысл, как легко заметить, остается тем же:
В истории весьма редки и непродолжительны такие периоды, когда можно быть интеллигентом и в то же самое время быть уверенным в своей полной безопасности. Чаще и продолжительней те периоды, когда интеллигентность заставляет людей заботиться о себе и своей культуре, когда она вынуждена обстоятельствами заботиться о своем вооружении и о своей защите. Однако еще чаще, еще продолжительней такие периоды, когда наступает необходимость боя… это значит, что подлинная интеллигентность всегда есть подвиг, всегда есть готовность забывать насущные потребности эгоистического существования; не обязательно бой, но ежеминутная готовность к бою и духовная, творческая вооруженность для него. И нет другого слова, которое могло бы более ярко выразить такую сущность интеллигентности, чем слово «подвиг». Интеллигентность — это ежедневное и ежечасное несение подвига [123].
После этого становится понятным, что «эпизод» с включением Лосевым «контрабандой» в издание «Диалектики мифа» вычеркнутых цензурой фрагментов (за что Лосева и упекли на Беломорканал), — не случайность, а продуманный, сознательный жертвенный акт. Точно так же совершенно очевидно, что Лосев прекрасно отдавал себе отчет в том, что он делает и чем это кончится, когда помещал в «Диалектику мифа» такой замечательный текст:
Иной раз вы с пафосом долбите: «Социализм возможен в одной стране. Социализм возможен в одной стране. Социализм возможен в одной стране». Не чувствуете ли вы в это время, как кто-то или что-то на очень высокой ноте пищит у вас в душе: «Н-е-е-е-е…» или «Н-и-и-и-и-и…» или просто «И-и-и-и-и-и…» Стоит вам только задать отчетливо и громко вопрос этому голосу: «К-а-а-а-к? Невозможен????», как этот голос сразу умолкает, а показывается какой-то образ, вроде собачонки, на которую вы сразу замахнулись дубиной, а она не убежала, а только прижалась к земле, поставила морду для удара и завиляла хвостиком, умильно и вкрадчиво, как бы смиренно выговаривая: «Ведь вы же не ударите меня, правда? Ведь мы же помиримся, правда?». Вы, конечно, не ударяете, а начинаете опять долбить то же. Но как только вы задолбили, этот писклявый голосишка опять начинает свою ноту, и уже пуще прежнего… [124]
За такое особо циничное издевательство над товарищем Сталиным расстрелять в 1930 г., конечно, еще не могли [125], но уморить в лагере — запросто!
Жертвенность интеллигенции, разумеется, есть жертвенность вынужденная. Это — отражение реального неравенства сил (в том числе и численного) интеллигенции в ее конфликте с властью в борьбе за освобождение всего общества. То есть это — оружие слабых, оружие праведников [126]. Но это — очень мощное оружие, поскольку противник (власть) не готов играть по таким правилам, не готов сам приносить себя в жертву.
Самым распространенным (и проверенным) методом «удержания в узде» оппозиции является репрессия или угроза репрессии (что одно и то же, как верно отметил Режи Дебре 30 лет назад). Угроза репрессии, угроза наказания, то есть страх, даже предпочтительнее для власти, поскольку позволяют экономить силы (предупреждать всегда лучше, чем лечить). Но всякий страх, в конечном счете, это страх потери — потери положения, комфорта, имущества, здоровья, наконец, жизни. Того, кто не боится это потерять, для кого эти ценности становятся ценностями второго плана, испугать невозможно. Об этом очень хорошо сказал, завершая свою речь на суде, Александр Ульянов:
Господа судьи! Известно, что у нас в России дается возможность развивать умственные силы, но не дается возможности употребить их на пользу служения родине. И тем не менее среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свои убеждения. Таких людей нельзя запугать ничем! [127].
Человек, принявший логику самопожертвования, — это камикадзе. Как известно, до сих пор, несмотря на все технические ухищрения, нет никакой защиты от камикадзе. Индийские спецслужбы, после того как Индира Ганди была застрелена собственными охранниками, проконсультировались со всеми ведущими спецслужбами мира, включая КГБ, ЦРУ, ФБР, Ми-5, Ми-6, «Шабак» и «Моссад» — и создали новую систему безопасности для премьер-министра, исключающую успешное покушение. Однако эта система не спасла Раджива Ганди от женщины-камикадзе, боевика «Тигров освобождения Тамил Илама» [128]. Известный британский журналист Патрик Кокбурн в частной беседе рассказывал, как он наблюдал в Южном Ливане поведение израильской армии, уже познакомившейся с исламистами-камикадзе. При приближении к блок-посту израильской армии любого автомобиля все израильтяне — от солдата до генерала — в панике прыгали в окопы, блиндажи и щели: любой автомобиль мог оказаться бомбой на колесах с камикадзе за рулем. Но с другой стороны, и обстреливать все машины издалека было абсурдно: это могло привести лишь к немотивированным убийствам огромного числа совершенно ни в чем не замешанных мирных жителей. Посмотрев на все это, Кокбурн пришел к выводу, что скоро израильтяне из Южного Ливана уберутся, — и последующее развитие событий подтвердило правоту этого вывода.
 |
Все помнят, какое впечатление даже на врагов произвели в 60-е гг. акты самосожжения Яна Палаха в Праге и буддийских монахов в Сайгоне, а недавно — курдов после похищения и ареста Абдуллы Оджалана.
Самопожертвование — это не только проявление личной смелости, акт героизма, индивидуальный подвиг, поведение в соответствии с собственной шкалой ценностей и собственными представлениями о чести (вспомним Карийскую и Якутскую трагедии), но и обращение к аудитории, пропаганда личным примером. Голос человека, выбравшего смерть, звучит громче и убедительнее, его аргументация — последняя аргументация. Дональд Кин в комментариях к книге Тикамацу Мондзаэмона писал, что добровольно вставшие на митиюки (путь смерти) становятся словно выше ростом и слова их начинают звучать яснее [129]. Фидель Кастро не скрывал, какое впечатление на него и его товарищей произвело демонстративное самоубийство лидера «ортодоксов» (к которым принадлежал и сам Кастро) Эдуардо Чибаса [130],— и Кастро, штурмуя казармы Монкада, взял с собой магнитозаписи патриотических песен и этой последней речи Чибаса, полагая, что они «способны воспламенить даже самых инертных» [131].
Интеллигент-камикадзе — не частное лицо, он действует не в личных интересах, а выступает как представитель всего общества, в первую очередь — угнетенных слоев. Его сила, сила его примера — как раз в том, что он действует не от своего имени, а от имени тех, кто по тем или иным причинам не способен пока на борьбу, на восстание, на социальное возмездие. То есть революционер — это не только камикадзе, но и Робин Гуд, мститель за обиды и унижения других. В классово разделенном обществе все угнетенные не могут восстать поголовно — и по причинам субъективным, и по причинам объективным (начиная от запуганности, забитости и неграмотности и кончая таким элементарными вещами, как состояние здоровья, возраст и просто необходимость того, чтобы кто-то поддерживал нормальный экономический процесс, производил продукты питания и т.п.). Но тот, кто восстал, — тот уже не угнетен. Интеллигент, осуществляющий социальный эксперимент и жертвующий собой в ходе этого эксперимента — это полномочный представитель всех, кто объективно заинтересован в изменении своего неравноправного социального статуса, в общественном прогрессе. Такая точка зрения, очевидно, близка к пониманию роли партизана (и шире — революционера) Че Геварой [132]. За это Че подвергали критике — за «самовольное присвоение функций судьи и мстителя», за «авангардизм», за «авантюризм», за «неклассовый подход» и т.п. Но в представлениях Че нет ничего экзотического. Они восходят по меньшей мере к раннему христианству — к представлениям о роли Христа и первых христианских мучеников, выступавших в качестве примера и представителя всех христиан. Ориген в знаменитом трактате «Против Цельса» так и пишет: «Некоторые немногие терпят гонения за благочестие …, чтобы взирающие на таковых могли приобрести больше испытанности и презрения к смерти» [133].
 |
Поэтому неудивительно, что даже такой яростный обличитель революционной интеллигенции, как Солженицын, изобретший нелепую теорию об «образованщине» (как будто советская «образованщина» чем-то отличается от типичных европейских интеллектуалов XIX—XX вв.), — и тот оказывается полностью зависим от системы ценностей и системы образов, созданных русской революционной интеллигенцией: «100 лет назад у русских интеллигентов считалось жертвой пойти на смертную казнь. Сейчас представляется жертвой — рискнуть получить административное взыскание» [134]. Солженицын здесь, как это ни смешно, стыдит интеллектуалов за то, что они не интеллигенты!
Но интеллектуалы и не могут вести себя по-другому. Они не могут стать камикадзе, возвыситься над частными, эгоистическими расчетами и целями. Ямамото Цунэтомо, автор классической книги бусидо «Хагакурэ» («Сокрытое в листве») пишет:
Расчетливые люди достойны презрения. Это объясняется тем, что расчеты всегда основываются на рассуждениях об удачах и неудачах, а эти рассуждения не имеют конца. Смерть считается неудачей, а жизнь — удачей. Такой человек не готовит себя к смерти и поэтому достоин презрения. Более того, ученые и подобные им люди за умствованиями и разговорами скрывают свое малодушие и алчность [135].
Юкио Мисима справедливо полагает, что эти строки относятся к интеллектуалам. Правда, он называет интеллектуалов, как и все прочие, конечно, «интеллигенцией», но оговаривается:
В век «Хагакурэ», судя по всему, не было людей, которых сегодня принято называть «интеллигенцией». Однако в мирное время их прототипы из числа конфуцианцев, ученых и самих самураев уже тогда начали формировать это сословие. Дзётё (монашеское имя Ямамото Цунэтомо. — А.Т.) просто называет таких людей «расчетливыми». Одним этим словом он обозначает порок, который всегда скрывается под личиной рационализма и гуманизма [136].
Отсюда ясно, что речь идет об интеллектуалах. Мисима совершенно неожиданно в своем комментарии к «Хагакурэ» обращается к системе ценностей интеллигенции и противопоставляет ее поведению интеллектуалов:
Даже в соответствии с современным гуманизмом, герой — это тот, кто ставит на карту свою жизнь во имя других. Однако в своей дегенеративной форме современный гуманизм используется для того, чтобы за сочувствием ближнему скрыть глубинный страх перед смертью и корыстолюбие человека, который намеревается использовать свои рассуждения для достижения эгоистических целей [137].
Нельзя не признать, впрочем, что самая знаменитая цитата из «Хагакурэ» одинаково может быть признана «своей» и самураем, и интеллигентом-революционером: «В ситуации «или—или» без колебаний выбирай смерть» [138].
Страта же г-на Косухкина, страта интеллектуалов-шестидесятников, в ситуации «или—или» не без колебаний, конечно, но неизменно выбирала унижение и подчинение. Самурая или интеллигента нельзя было заставить лизать задницу власть имущим (если самурай или интеллигент соглашались на это, они переставали быть самураем или интеллигентом, совершали моральное самоуничтожение). Либералы-шестидесятники всю жизнь только этим и занимались: лизали задницу власти (за глаза ругая ту же власть). Сегодня вся страта г-на Косухкина сама сидит в глубочайшей заднице. И при этом ищет виновных где-то вовне. Нет никаких виновных вовне! Вы сами, г-да интеллектуалы, во всем и виноваты. Вы так привыкли к лизанию задницы, вам это занятие так понравилось, что вы просто не заметили, как задница вас засосала!
Г-н Косухкин обвинил меня в прямой клевете на Аверинцева: я, дескать, лгал и сознательно «умудрялся запятнать замечательного человека грязным клеймом, даже бегло не просмотрев» его статьи в «Мифах народов мира». Это — прямое обвинение в нечистоплотности. Придется отвечать.
Сначала об Аверинцеве вообще. Если бы Аверинцев тихо сидел и продолжал заниматься своей византийской литературой, античной риторикой и тому подобными темами — и не высказывался на темы общественно-политические, я бы его и не упомянул! Тысячи интеллектуалов — куда менее трудолюбивых и талантливых, чем Аверинцев — сидят и занимаются сегодня так же, как и при советской власти, столь же далекими от жизни и по сути схоластическими темами — я же их не называл поименно. Но Аверинцев выступил с поучением, с рецептом, с указанием, как должен себя вести интеллигент — хотя никто Аверинцева за язык не тянул, никто не принуждал. Существует сократическое правило: учитель должен жить по своему учению. Если не можешь жить так, как сам учишь других — не учи! Если бы Иисус призывал других жить в бедности, а сам собирал сокровища земные, учил других не слушать фарисеев, а сам бы перед фарисеями пресмыкался, говорил другим: «Не человек для субботы, а суббота для человека», а сам поступал наоборот и т.п. — он бы сам себя превратил в посмешище.
Вот и Аверинцев должен был либо не призывать интеллигентов к жизни в бедности (и не ссылаться на Гомера), либо сам следовать своему призыву.
Вообще фигура Аверинцева (так же, как академика Лихачева) сильно раздута нашими шестидесятниками. Типичный советский интеллектуал, Аверинцев едва ли заслуживает того, чтобы о нем говорили с таким придыханием, как это делает г-н Косухкин. Да, конечно, Аверинцев выучил много языков, в том числе мертвых, да, он талантливый переводчик, да, он работал в малоизученных советской гуманитарной наукой областях. Но в каких именно областях? Почитайте Аверинцева — и вы увидите, что всё это в основном маргинальные, маловажные, очень далекие от магистральных направлений научной мысли области, подозрительно близкие к схоластике. Да, то, чем занимается Аверинцев, это тоже наука, это тоже приращение объективного знания. Но существует понятие важности. Количество реально существовавших и существующих сейчас в природе явлений и объектов так велико, что поле деятельности ученого поистине безгранично — и подлинный интеллигент неизбежно приходит к выводу о необходимости сепарации: к тому, что заниматься нужно главным, важным, а не третье- и не тем более не десятистепенным. Можно, конечно, положить всю жизнь на выяснение того, кто поименно жил в Смирне в момент разрушения ее царем Алиаттом. Возможно, это даже удастся выяснить (если удастся, то все это признают научным подвигом) — но надо ли?
Подобного рода «научная работа» именуется, как известно, мелкотемьем и еще в XIX в. саркастически описывалась формулировкой «подсчет количества листьев на деревьях, стоящих вдоль такой-то дороги в Курской губернии». Можно, конечно, написать статью, где будет доказано, что такое-то сочинение написано таким-то автором не в 8 г. до н.э., как ранее считалось, а в 7-м, — и это будет, безусловно, приращением знания, продвижением к истине. Но, положа руку на сердце, что это уточнение кардинально изменит? Ничего. Это лишь крошечный, микроскопический штришок в уже существующей картине. Основы этой картины заложены самими творцами (включая того «автора», который написал это предполагаемое «сочинение» не в 8, а в 7 г.), известную нам форму картина приняла еще несколько веков назад — трудами таких-то и таких-то выдающихся ученых. Аверинцев, несмотря на все его знания (в них я не сомневаюсь), вынужденно оказывается лишь эпигоном. Вот если бы он доказал, что общепризнанная картина, нарисованная его предшественниками в такой-то отрасли гуманитарного знания, неверна — и заложил бы основы новой картины, существенно приближающей нас к Истине, — вот тогда он мог бы обоснованно претендовать на то, чтобы г. Косухкин писал о нем с таким придыханием.
Я отнюдь не требую невозможного. Современниками Аверинцева являлись и Э.Ю. Ильенков, и М.А. Лифшиц, и Р.Я. Лурия, и П.П. Блонский, и С.Я. Рубинштейн, и С.Л. Выготский, и Б.Ф. Поршнев, и А.А. Зимин, и Н.Я. Эйдельман (и это далеко не весь список) — и по отношению к ним можно смело сказать, что каждый сам по себе был настоящим прорывом к Истине, каждый был человеком, бравшимся за решение важнейших задач в своих областях гуманитарного знания. Поставить в этот список Аверинцева я, увы, не могу (во всяком случае, пока). Аверинцев относится к тому большому числу научных работников, каких было много во всех странах во все времена. Они трудолюбивы, талантливы и вносят определенный — больший или меньший — вклад в науку. Но — увы — они не ученые, а именно научные работники. Переворотов в науке они произвести не в состоянии. Таких было немало и у нас в России, скажем, в XIX в. Вот возьмем для примера И.И. Срезневского. Тоже знал много языков, писал на многие темы, внес — немалый для своего времени — вклад в развитие в России гуманитарных дисциплин. Некоторые его работы не утратили определенного интереса и определенной научной ценности и до сих пор. Но при этом Срезневского нельзя поставить в один ряд ни с Карамзиным и Соловьевым, ни с Чернышевским и Лавровым, ни с Белинским и Добролюбовым, ни с Потебней и Афанасьевым (не Юрием, естественно, а Александром Николаевичем).
Полагаю, совсем не случайно то, что Аверинцев выбрал в качестве сферы приложения своих способностей такие далекие от всего опасного области, как античная и византийская филология, эстетика и риторика — а внутри их зачастую откровенно эпигонских, вторичных авторов (и соответствующие темы). Полагаю, это — свидетельство присущей Аверинцеву (хотя, возможно, им самим и не отрефлексированной) мещанской трусости: Аверинцев стремился обосноваться в науке как можно дальше от потенциальных источников опасности — от тем и областей гуманитарного знания, в которых он даже вопреки своему желанию мог совершить «идеологические ошибки», разойтись с «линией партии». Отсюда и выбор самой безобидной гуманитарной науки — филологии, и выбор внутри филологии самой безобиднейшей ее части — классической: понятно же, что сколько ни цитируй Аристотеля или Секста Эмпирика, Аристофана или Вергилия, — антиправительственных цитат у них не найдешь: ни Маркса, ни Ленина, ни Сталина, ни Брежнева они не критиковали. А если и возникнут какие-либо вопросы, всегда можно, во-первых, найти цитату из Маркса или Энгельса, подтверждающую величие античных авторов, а во-вторых, сослаться на седую древность (то есть на сугубую академичность) и текстов, и событий, и тем. Не случайно даже историки античности и даже при Сталине чувствовали себя уверенно — при условии, конечно, что они не покушались на сталинскую идею «революции рабов» [139].
Думаю, совсем не случайным является и устойчивый интерес Аверинцева к К.Г. Юнгу (единственный, кажется, случай серьезного экскурса Аверинцева в области, далекие от его традиционных тем). Похоже, Аверинцев увидел (точнее, наверное, почувствовал) в Юнге родственную душу. Тот так же, как и Аверинцев, питал пристрастие к маргинальным, научно вторичным, научно тупиковым темам (алхимии, мистике и т.п.). Тот также был типичным мещанином — и даже его критика «массового человека», в отдельных аспектах очень верная и точная, была в основе своей критикой с позиции просвещенного обывателя, интеллектуала, испуганного угрозой «вторжения варваров», способных разрушить привычный ему мещанский уют. Юнг точно так же вел жизнь типичного обывателя — и притом трусливого: даже живя в благополучной Швейцарии, он не осмелился отказаться от сотрудничества с нацистским режимом, от редактирования (совместно с М.Г. Герингом, двоюродным братом рейхсмаршала) нацистского психотерапевтического журнала «Zentralblatt für Psychotherapie», от поста президента созданного в гитлеровской Германии Международного общества психотерапии, — хотя взгляды Юнга, изложенные в его собственных работах (в частности, то, что он писал о «массовых движениях» и об отношении к государству), должны были заставить его не сотрудничать, а бороться с фашизмом. (Точно так же и христианин Аверинцев должен был бороться с атеистическим советским государством, а не делать внутри него академическую карьеру).
Хочу специально отметить: когда я писал об Аверинцеве, я ведь не возражал против смысла слов Аверинцева о том, как себя должен вести интеллигент. Сказал-то Аверинцев все правильно: интеллигент должен ориентироваться на добровольную бедность, он живет и творит не для того, чтобы скопить денег «на долгую сытую старость» [140]. Я лишь обратил внимание читателя на то, что раз сам Аверинцев не способен вести себя так, как подобает интеллигенту, стало быть, он сам — не интеллигент, а интеллектуал. Собственно, это — второе доказательство. Первым был его конформизм по отношению к контрреволюционному советскому государству. Подлинный интеллигент не мог не вступить в конфликт с советской властью. Конечно, глубина и интенсивность этого конфликта могли быть различными, но сам конфликт был неизбежен.
Аверинцев трусливо молчал все «годы застоя» — и стал активно выступать на общественной арене лишь во времена «перестройки», но и тогда он не выходил за рамки дозволенного. Тем более интересно почитать внимательно его программную статью «Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России», появившуюся сразу после распада СССР [141].
Аверинцев начинает с более чем показательной фразы: «Наконец освобожденная, благодарение Богу, от идеологического рабства вчерашнего дня, Россия» [142] — демонстрируя тем самым откровенный мещанский дилетантизм: по Аверинцеву получается, что не власть номенклатуры являлась причиной «бедствий страны», а то, что номенклатура была вынуждена оглядываться на чуждую себе идеологию — марксизм. Такой вот уровень понимания. Удивительно, честное слово, почему же под гнетом «идеологического рабства» Аверинцев в России жил, а из «освобожденной России» сбежал?!
Но куда более ценным является то, что в этой статье Аверинцев впервые без трусливой оглядки на власти предержащие открыто демонстрирует свои подлинные социально-философские взгляды и пристрастия. И, несмотря на то, что тема выступления носит характер вроде бы узкоспециальный, выводы можно сделать однозначные. Аверинцев атакует Платона — и атакует его в точности, как Поппер, то есть как родоначальника социально-утопической мысли! [143] Но в добавление к Попперу Аверинцев находит дополнительную аргументацию против окаянного Платона: Платон, оказывается — отец ересей! Аверинцев добросовестно приводит примеры ересиархов и еретиков — платонистов (скрытых платонистов), противопоставляя им «правильных», ортодоксальных теологов — всех, как один, аристотелистов [144]. Аверинцев скромно подчеркивает: «Постановления V Вселенского собора и Константинопольского собора 1076 года строго осуждают эллинские речения о предсуществовании и переселении душ и об идеях — доктрины Платона, не Аристотеля» [145].
Вообще говоря, для православного такая неприязнь к Платону и любовь к Аристотелю, мягко говоря, нетипичны. Аверинцев и сам проговаривается, что такие важные компоненты христианской идеологии (особенно заметной в православной доктрине), как аскетизм и «презрение к миру», восходят к Платону не в меньшей степени, чем к Иисусу Христу [146]. Но может быть, в этом-то все и дело?
В последнем легко убедиться, обратившись к тем местам, где Аверинцев воспевает Аристотеля. Чем же привлек Аверинцева Стагирит? Во-первых, тем, что он «первый … посмотрел в глаза духу утопии и преодолел его» [147]. Во-вторых, своей нацеленностью на конформизм, приспособленчество и мещанский прагматизм (стремление извлечь выгоду из существующей реальности, а не изменять ее). Аверинцев с нескрываемым умилением пишет: «Речь идет не об абсолютном благе, не об элиминировании зла, но о выборе наидостовернейшего блага и наименьшего зла» [148]. Речь, уточняю, идет о возможных вариантах государственного устройства. Аверинцева умиляет, по сути, обывательский цинизм, обнаруженный им у Аристотеля: неважно, какой строй, важно как при этом строе минимизировать личные потери и извлечь максимальную выгоду: «Вопрос не в том, быть или не быть феномену, а в том, каковы объективные законы этого феномена и как, ориентируясь по этим законам, извлечь максимум блага и минимум зла» [149].
В-третьих, Аристотель восхищает Аверинцева потому, что именно у Аристотеля находит Аверинцев истоки морали буржуа, торгашеской морали, морали рыночной, основанной на обмене, на контракте [150]. А из этой морали Аверинцев выводит уже внутреннее своеобразие западной цивилизации, цивилизации, исключающей доверие и любовь и заменяющей их писанным юридическим документом (начиная от договора купли-продажи и кончая брачным контрактом). Аверинцев проговаривается: «Далеко не случайно Достоевский, яростный обличитель Запада, ненавидел самый дух морали контракта, в котором угадывал суть западной ментальности, считал его безнадежно несовместимым с христианской братской любовью и даже поминал в связи с ним весы в руке Третьего Всадника Апокалипсиса — образ скупой меры, отмеривающей ровно столько и не больше» [151].
Все это свидетельствует не против Аристотеля, конечно, а против Аверинцева. Своим восхищением именно этими сторонами аристотелизма Аверинцев выдает себя как конформиста, интеллектуала-мещанина и противника освобождения всего общества (а, стало быть, и противника интеллигенции). Для целей же данной работы важнее то, что Аверинцев разоблачает себя как лжеца: не мог Аверинцев искренне выступать с платоновским призывом к аскетизму, если платоновский аскетизм ему лично ненавистен, а аристотелевское приспособленчество, аристотелевское стремление к материальной выгоде — милы. Q.e.d.
Обратимся теперь к «Мифам народов мира». Если верить г-ну Косухкину, я «оклеветал» Аверинцева, заявив, что для «Мифов» этот православный сочинил материалистические (и даже вполне марксистско-ленинские) статьи. А как еще я мог характеризовать статьи, в которых Аверинцев относит к мифологическим персонажам и понятиям: ангелов, Андрея Первозванного, Антихриста (!), Армагеддон, бесов, Благовещение (!), Велиала, Вознесение Христово (!), Воскресение Иисуса Христа (!), девять чинов ангельских, Захарию и Елисавету, Иоанна Богослова, лоно Авраамово, деву Марию, то есть Богоматерь (!), Сатану (!) [152] и, наконец, самого Иисуса Христа [153]?! А сверх того: называет великомученицу Варвару персонажем легенды, выражает неверие в правдивость новозаветного рассказа о 12 «непосредственных учениках Иисуса» (т.е. о 12 апостолах) и полное неверие в святость и чудотворные способности св. Николая Мирликийского [154], а также проявляет особый цинизм в отношении Иисуса Христа: с редким упорством (во всех статьях) пишет «земная жизнь» Христа исключительно в кавычках, относит Христа как Мессию опять-таки к области мифологии, демонстрирует неверие в реальность поединка Христа с дьяволом в пустыне и т.д. [155]
Апофеозом этой разнузданной антирелигиозной пропаганды стала статья «Христианская мифология». Здесь Аверинцев не только возводит христианского бога к еврейскому племенному (этническому) божку Яхве, не только возводит те или иные элементы христианской мифологии к элементам мифологии иудеев, древних египтян и других народов Ближнего Востока, кельтов и древних германцев, но и указывает историко-материалистические причины возникновения, формирования и изменения тех или иных элементов христианской мифологии. Все это сопровождается цитатами из Энгельса, параллелями с другими мировыми религиями (буддизмом, в частности), предоставлением обильной библиографии, начиная с классиков марксизма, и, наконец, совершенно протестантским по своей сути разведением христианской мифологии и христианской теологии (христианской доктрины), так что христианство, с одной стороны, в постоянных противопоставлениях этих разведенных Аверинцевым составляющих само дискредитирует себя в глазах читателя, а с другой стороны, начинает подозрительно смахивать на буддизм, распадаясь на доктрину (то есть, строго говоря, философию, где бог и прочий религиозный антураж — лишь термины) и мифологию (то есть набор образов, обрядов и «сакральных» текстов для профанов) [156].
 |
 |
 |
Просто не могу себе представить, как Аверинцев замаливал такой чудовищный, с точки зрения христианства, грех, как публичное (и хуже того: помещенное в энциклопедический словарь, то есть предназначенное для просвещения масс, — «Кто соблазнит малых сих…») занесение Иисуса Христа и девы Марии в число мифологических, то есть вымышленных, сказочных персонажей!
Спрашивается: как Аверинцев, если он действительно верующий христианин, должен был писать словарные статьи о христианстве? А вот так, как они написаны, скажем, в Православном богословском словаре. Возьмите этот словарь и посмотрите там любую аналогичную статью, например, «Антихрист» или «Иисус Христос» [157] (статьи «Христианская мифология» там, понятно, нет и быть не может). В этих статьях вы не найдете сообщений, что Антихрист и Христос — персонажи мифологии и тому подобных немыслимых для христианина вещей.
Косухкин скажет мне, что невозможно было в советском энциклопедическом словаре писать так, как велит Аверинцеву совесть христианина. Но ведь никто Аверинцева и не принуждал писать эти статьи! Никто его не расстрелял бы, если бы он отказался. Наверняка и без Аверинцева нашлось бы кому эти статьи написать. Более того: как честный человек Аверинцев обязан был отказаться от написания таких статей. Раз не отказался — значит, он именно трус и ханжа.
В том же, что эти статьи Аверинцева написаны на необходимом научном уровне, я не сомневаюсь. Во всяком случае, насколько я могу судить, в них нет такого количества недоразумений, передержек и прямых ошибок, как в статьях А.Я. Гуревича в тех же «Мифах народов мира».
Поскольку я опять затронул очередную для либералов-шестидесятников «священную корову» (книгами Гуревича «Категории средневековой культуры» и «Проблемы средневековой народной культуры» все наши либералы зачитывались в «годы застоя», не подозревая, что Гуревич целыми страницами пересказывает содержание работ западных авторов, в первую очередь — школы «Анналов»), то придется привести некоторые примеры. Иначе очередной Косухкин обвинит меня в очередной «клевете».
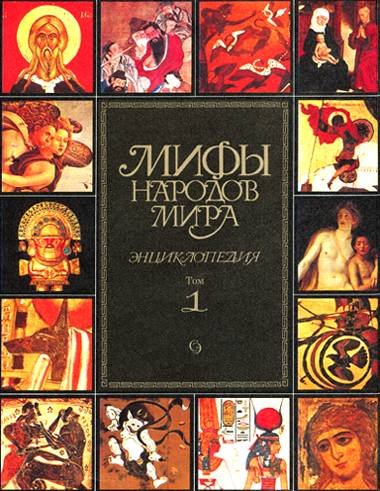
Итак, в статье «Атли» Гуревич совершенно необоснованно именует казнь Хёгни и Гуннара «ритуальным жертвоприношением» [158]. Это — грубая ошибка, для энциклопедического словаря недопустимая: вырезание сердца (казнь Хёгни) — это не «ритуальное жертвоприношение», это почетная казнь. По воззрениям древних германцев, пленный воин не мог попасть в Вальхаллу (для этого он должен был погибнуть в бою). Но существовало два вида почетной казни, демонстрирующей героизм воина, служащей символической заменой гибели в битве и, следовательно, позволявшей пленному попасть в Вальхаллу: «кровавый орел» (когда пленному вскрывали грудную клетку и разворачивали ребра как крылья) и вырезание сердца. То есть, вырезая у Хёгни сердце, Атли отдает Хёгни должное как герою: даже пав жертвой коварства и найдя смерть в плену, Хёгни, как и подобает герою, должен попасть в Вальхаллу.
Аналогично не является «ритуальным жертвоприношением» и казнь Гуннара (смерть в яме со змеями). Во всем скандинавском эпосе зафиксировано, кажется, всего два случая аналогичной казни, причем они сильнейшим образом отличаются друг от друга. Ритуальное жертвоприношение — вещь канонизированная, во-первых, и широко распространенная, во-вторых. Если бы казнь в яме (рве) со змеями действительно была «ритуальным жертвоприношением» — она была бы описана многократно и приведена к единому канону.
В статье «Беовульф» Гуревич пишет, что сцены борьбы Беовульфа с чудовищами «перекликается с соответствующими сценами единоборства с чудовищами из исландских саг (в частности, «Саги о Греттире»)» [159]. Это полная ерунда. Беовульф действительно сражается и побеждает чудовищ (Гренделя и его мать, дракона), а Греттир сражается с великанами и ожившим мертвецом. Это вовсе не чудовища. Беовульф сражается днем — Греттир ночью. Беовульф сражается, чтобы спасти (освободить) целые страны (королевства) от опустошающих их чудовищ, Греттир сражается потому, что, будучи проклят и объявлен вне закона, он обречен на кочевую жизнь абрека (как сказали бы у нас на Кавказе) и, строго говоря, желает только одного — чтобы его оставили в покое, перестали преследовать. Беовульф, как подобает герою, побеждает и пожинает плоды своих побед (садится на королевский трон), Греттир гибнет, а его победы не приносят ему радости: его, объявленного вне закона, продолжают преследовать, да и сам он знает, что надежды на окончательную победу у него нет, поскольку он проклят. Более того: в советском академическом издании «Саги о Греттире», в послесловии М.И. Стеблин-Каменский прямо пишет, что между «Беовульфом» и «Сагой о Греттире» нет никакой связи! [160]
В статье «Брюнхильд» Гуревич переводит hildr как «“бой”, точнее “поединок, происходящий на освященном огороженном месте”» [161], хотя это не «точнее», а сосем наоборот: hildr — это именно «бой» (всякий), а «поединок на освященном огороженном месте» — это holmgang.
В разделе «Германо-скандинавский героический эпос» статьи «Германо-скандинавская мифология» Гуревич говорит, что англо-саксонские королевские династии возводят свое происхождение к асам [162]. Это неверно. Англо-саксонские королевские династии (в отличие от шотландских и валлийских) не имели традиции возводить себя к богам и уж тем более к группе высших богов — асов.
В статье «Гудрун» Гуревич опять впадает (как в статье «Атли») в поиски ритуальных жертвоприношений там, где их нет, да еще и противоречит сам себе: рассказывая об убийстве Гудрун своих сыновей от Атли (в ответ на убийство Атли ее братьев), Гуревич одновременно трактует это и как акт кровной (родовой) мести (что совершенно верно), и как «ритуальное жертвоприношение» [163], что полная чепуха. Во-первых, женщинам вообще не разрешалось — как «низшим» существам — устраивать жертвоприношения (кроме жертвоприношений Фрейе) — и уже тем более кровавых жертвоприношений (если это не менструальная кровь). Во-вторых, убийство Гудрун своих сыновей от Атли — это совершенно прозрачный пример родовой мести: по представлениям древних германцев, братья были кровными родичами, несравненно более близкими, чем муж — и их смерть требовала отмщения, а сыновья Гудрун от Атли относились к роду Атли, а не к роду Гудрун.
В той же статье Гуревич пишет: «Готовясь к убийству Атли, Г[удрун] раздает золото и другие сокровища, причем это место в «Песни Атли» (39) содержит выражение: «она выращивает судьбу» (очевидно речь идет о ритуальных актах, и следующее за ним убийство гуннского короля (т.е. Атли. — А.Т.) опять-таки выглядит как принесение жертвы)» [164]. Это уже просто какая-то элементарная неграмотность! Раздача золота — это не «ритуал» и не «принесение жертвы». Гудрун просто готовит себе «двор» (союзников) после смерти Атли, отдавая им часть своей удачи (золото и т.п. предметы у древних германцев символизировали удачу (судьбу), изначально данную каждому человеку; у представительницы бургундской королевской династии и жены короля удача была, естественно, очень большой; раздавая золото, Гудрун передавала часть своей удачи и могла рассчитывать на благодарность и поддержку тех, кто принял это золото). Поразительно, но если заглянуть в написанную Гуревичем же статью «Нибелунги» [165], обнаруживается, что Гуревич все это знает — или, во всяком случае, знал, когда писал о Нибелунгах!
Помешавшись на этих поисках «ритуальных жертв», Гуревич далее и возможную (то есть лишь предполагаемую) гибель Гудрун в огне (то есть самоубийство) готов отнести к «жертвенному самозакланию»! Между тем, «жертвенное самозаклание» противоречит всем представлениям древнегерманского (древнескандинавского) сознания: принося себя в жертву, нельзя ни откупиться от богов, ни задобрить их, ни спасти свой род от преследований.
В статье «Нибелунги» Гуревич пишет уже что-то совсем невероятное: рассказав о проклятии, наложенном карликом Андвари на волшебное кольцо, Гуревич говорит, что обладание этим кольцом приносит смерть всем, кому оно достается, — и начинает этот список с… Локи! [166] Даже люди, плохо знакомые со скандинавской мифологией, знают, что Локи вовсе не гибнет от проклятия Андвари, что Локи вообще погибнет лишь при гибели мира, в Рагнарёке. Очевидно, Гуревич считает, что Рагнарёк уже наступил, гибель богов и всего мира уже произошла!
В статье «Сигурд» Гуревич внезапно сообщает, что проклятие Андвари наложено не на кольцо, а на золото вообще [167]. Так все-таки нельзя! Неужели в рамках одного издания (тем более — справочного) трудно придерживаться какой-то одной точки зрения по одному и тому же вопросу?
Но это не все. Гуревич смело пишет, что «мифы и сказания, составляющие сюжет эпоса» (германо-скандинавского героического), «возникли на континенте и лишь впоследствии проникли на север», где подверглись переработке и архаизации [168]. Это, вообще-то, требует доказательства. Большинство исследователей так не считает. Я уже не говорю о том, что если эпос пришел в Скандинавию с юга и самим скандинавам не был известен, то просто невозможна его архаизация, то есть восстановление более древней версии.
В статье «Хаддинг» Гуревич ссылается на описанным Ибн Фадланом наблюдавшийся тем в Волжской Булгарии в X в. «обряд похорон норманнского вождя» [169]. Тот, кто читал Ибн Фадлана, знает, что этот путешественник описал похороны знатного руса (возможно, вождя), то есть древнего русича или, возможно, варяга. Логика подсказывает, что хорошо бы сначала доказать тождественность этого руса со скандинавом, а уж затем ссылаться на Ибн Фадлана.
В этой же статье Гуревич, рассказывая о самоубийстве Хаддинга, уверенно сравнивает его с «жертвоприношением самого Одина» [170] (имеется в виду 9-дневное висение Одина на мировом древе — ясене Иггдрасиль) — хотя давно уже признано, что это было вовсе не «жертвоприношение», а шаманское «путешествие за знанием» («второе рождение») — первый известный пример шаманской инициации.
Далее Гуревич окончательно запутывается, когда валит в одну кучу все мыслимые предположения о Хаддинге, в частности, что тот, по Дюмезилю, представлял (вместе с Фроди) Ньёрда и Фрейра — «параллель «божественным близнецам» римской и ведийской мифологии» и что слово «хаддинги» первоначально у скандинавов было «обозначением определенного рода жрецов» [171]. Во-первых, Дюмезиль, который, в отличие, видимо, от Гуревича, не забыл, что Ньёрд и Фрейр — вовсе не братья-близнецы, а отец и сын, писал нечто иное: Ньёрд и Фрейр «занимают вместе значительную часть функционального уровня Насатьев (заменяя близнечность родством и тесной дружбой)» [172]. А во-вторых, все-таки что-то одно: либо это «божественные близнецы», либо жрецы!
Наконец, в статье «Хетель и Хильда» [173] Гуревич почему-то вдруг со ссылкой на Ф.Р. Шрёдера упоминает о Хёгни «в качестве демона смерти» [174]. Всякий серьезный исследователь германо-скандинавской мифологии знает, что именно демона смерти в этой мифологии нет!
Почему-то вообще излишне доверяющий Шрёдеру, Гуревич повторяет за ним, что мотив вечно возобновляющейся битвы погибших воинов (дружин Хетеля и Хильды с ними самими во главе) «вторичен» и «привнесен в германский (первоначальный) эпос на скандинавском севере» [175]. Это как раз в высшей степени сомнительно. Куда вероятнее, что этот мотив первичен: он отражает «темную сторону» Одина — бога-обманщика, бога — покровителя воинов, бога — покровителя повешенных, который в данном случае покровительствует обеим сторонам — и услаждает себя кровавым зрелищем неоднократной смерти в битве одних и тех же воинов (земной параллелью эйнхериев в Вальхалле).
Такие вот замечательные статьи написал глубоко уважаемый шестидесятниками А.Я. Гуревич.
А ведь словарь «Мифы народов мира» получил Государственную премию! Не знаю, получил ли премию Гуревич, но если получил — я не удивлюсь.
И последнее. То, что Косухкин «читал с интересом», как он выразился, «теоретическую часть» моей статьи, меня расстроило. Если это не ритуальная фраза, а чистая правда — значит, я где-то совершил ошибку, не доглядел, недостаточно четко, ясно, прямо сформулировал то, что хотел сказать. Мой «Манифест» у таких, как Косухкин, должен вызывать не «интерес», а ненависть, злобу, звериную ярость и желание немедленно со мной расправиться.
Я писал «Манифест» не для косухкиных. Я принадлежащих к этой страте презираю и одной из важнейших задач своей жизни считаю их уничтожение.
Я писал «Манифест» для молодых, для следующего поколения, для тех, кто придет — и сметет с лица земли все это довольное мещанское стадо интеллектуалов вместе с их обывательским мирком, обывательской моралью, обывательской эстетикой, обывательской «демократией» и обывательским «прогрессом».
Я знаю, что мой «Манифест» читается молодыми. Этого достаточно.
А специально для г-на Косухкина и других либералов-шестидесятников я процитирую адресованную им «Колыбельную», которую сочинил представитель такой молодежи — рок-бард-поэт Александр Непомнящий, относящийся вовсе не к моей страте, а, в лучшем случае — к союзной:
Покупали стихи в универмагах, Узнавали судьбу из последних газет, Побеждали врагов в компьютерных драках, С «Кама-сутрой» — на завтрак, святой водой — на обед,
Победители, спите: всё отныне спокойно В колыбельных стандартах панельных домов — Побежденных — нас — нет. Пусть вам будет не больно, Когда вдребезги побьет стекла ваших очков
Высокая поэзия кованых сапог, Добродетельный мир, новая «Жюстина», Высокая поэзия кованых сапог, Добродетельный мир, новая «Жюстина».
Фтор укрепляет зубы... Исус любит тебя... Каталог товаров... Рок-андеграунд... Джа даст нам всё... Мир спасет красота... Иегова не съест... Интернет не обманет...
Ах, гуманно на кухне (с мыслями о вине): «Давай говорить друг другу комплименты» — Пока не прервет командой «К стене!» Этой любви прекрасной моменты
Победная поэзия кованых сапог, Добродетельный мир, новая «Жюстина», Победная поэзия кованых сапог, Добродетельный мир, новая «Жюстина».
Микки-Маус к утру обнаружит простуду, В полдень синие пятна по телу пойдут, Ну, а к вечеру — рак и выпадут зубы, А потом — пауки из углов поползут!
И лифт оборвется, дискотека заглохнет, Псы найдут горла жертв, будет крик, грянет вой, Когда захлестнет и погасит все окна Клокочущей пеной, бездонною тьмой
Безумная поэзия кованых сапог, Добродетельный мир, новая «Жюстина», Безумная поэзия кованых сапог, Добродетельный мир, баю-бай...
 |
Баю-бай, г-н Косухкин!
17 июня — 2 сентября 2000
спела: «Моей любви»!... нет невзгод, а есть одна беда — Твоей любви лишиться навсегда
Меня поразило в его лице выражение неуклонной воли и властности с примесью презрения.
— Как твоя фамилия? — спросил я. Он посмотрел на меня сверлящим взглядом и с расстановкой промолвил:
— Вы меня, пожалуйста, не «тыкайте»; не забывайте, что я такой же интеллигент, как и вы.
— Хорош интеллигент, что и говорить! Ты не интеллигент, а убийца и изверг рода человеческого!
(Кошко А.Ф. Очерки уголовного мира царской России. Воспоминания бывшего начальника Московской сыскной полиции и заведывающего (так в оригинале. — А.Т.) всем уголовным розыском Империи. 20 рассказов. Париж, 1926. С. 75.) Совершенно очевидно, что ни один из участников этого диалога к интеллигенции никакого отношения не имел. Но любопытно здесь не только то, что выгнанный из третьего класса духовной семинарии бандит Самышкин считал и себя, и полицейского интеллигентами, но и то, что интеллигентом считает себя и сам полицейский чиновник Кошко!Полный авторский текст. Опубликовано в журнале «Альтернативы», 2000, № 4; 2001, №№ 1, 3, в виде цикла из трех статей под общим названием «Письма либералу-шестидесятнику из Архангельска и либералам-шестидесятникам вообще» с незначительными редакционными сокращениями и изменениями.