
| Saint-Juste > Рубрикатор | Поддержать проект |
Аннотация
 |
Революция — это социальный шквал, взрыв, водоворот, катастрофа, бурная и грозная внешность которой заслоняет четкую закономерность скрытых внутренних пружин. Революция всегда груба, жестока, кровава. Как беспощадная, тупая бессмысленная фурия, она идет с закрытыми глазами, всегда тягостная и мучительная для современников. Но справедливая к отдельным лицам, революция проявляет свой смысл и свою мудрость только в массах и в событиях. Ее глаза, закрытые с виду, — вещи и прозорливы: революция видит незримое современникам: пути грядущего. Поэтому история только ретроспективно любуется красочностью революционного урагана, постепенно забывая и его суровость, и всю действительную трагичность его переживаний.
Революция для современников — всегда внезапна и случайна. Но несмотря на всю ее внешнюю оторванность от подготовлявших ее событий, несмотря на неожиданность и стихийное своеобразие, несмотря на обычное ощущение, что она протекает «не так», как предугадывали или желали предвидевшие революцию ее немногие друзья, — все же каждая революция только отдельное звено большой общей цепи. С высоты птичьего полета истории — революция, в конце концов, действительно перманентна. Звенья ее цепи имеют свое направление, свою прочную связь и свое указующее внутреннее единство, т. е. для отдельных моментов свою преемственность. В итоге можно установить своего рода генеалогию революционных выступлений, своего рода родство действующих лиц, вознесенных историей на гребни социальных волн. В социальной революции нашего века у вождей отдельных выступлений, в их сознании — как бы постепенно нарастает революционная воля, единая, мощная.
Вот новая сила нашего времени!.. И раньше, чем наступит крайний день ее окончательного выявления, раньше дня «последнего и решительного боя» — все предшествующие стычки всею своею совокупностью намечают исторические вехи одного общего пути, как бы этапы своего рода единой исторической траектории. Познать фигуру этой траектории — и есть высшая мудрость историка и экономиста. Наш гневный и бурный двадцатый век — эпоха такой сплошной социальной революции, а, следовательно, путь единой социально-революционной траектории. Социальная революция нашего века — поистине перманентна. Родник современной пролетарской революции — события и условия эпохи Великой Французской революции, но события и условия не той красочной политической стороны великого движения, которая стоит на авансцене европейской истории, а того мало заметного и мало изученного переворота в технике, который получил неясное наименование индустриальной революции конца XVIII века. В знаменитое тридцатилетие (1770—1800) сошел со сцены старый ремесленный строй, народились большие фабрики и заводы, появились новые способы и пути сообщения, словом, сложился тот промышленный капитализм, который лег в основу социально-экономических условий нового времени. Индустриальная революция обнажила и подчеркнула то многовековое разноречие, которое со времени первых этапов развития современной цивилизации легло в основу человеческих отношений — это противоположность материальных интересов немногих — богатых и многих — неимущих-трудящихся. Социальная рознь между богатым и бедным — вот острие, которое рассекает социальное тело исторического процесса, являясь первопричиною и взаимоотношений, и поведения, и идей. Трагическая глубина и примитивная важность указанной первопричины сокрыты для многих. Только острый взор мыслителя открывает ее в сложном клубке людских отношений. К числу их бесспорно принадлежат и вожди бабувизма, построившие на этой старинной розни и свое мировоззрение, и свое поведение. Историограф и соратник смелого Гракха Бабёфа — Филиппо Буонарроти, знаменитая книжка которого ныне предлагается вниманию русского читателя, так и смотрел на сущность Великой Французской революции, которой он был активнейшим участником. За важнейшим политическим актом — созданием республики, Буонарроти видел другое очередное действо — «взрыв всегда существовавшего разногласия между сторонниками достатка и отличий, с одной стороны, и друзьями равенства или многочисленным классом трудящихся, с другой».
Буонарроти [a] также резко делит все общество на два лагеря: в одном, большем, «эгоисты», «собственники», приверженцы «неравенства», а в другом, меньшем, — все истинные «патриоты, друзья народа», «друзья равенства». Термина коммунисты, — что объяснило бы истинный смысл и сущность воззрений и его, и его друга Бабёфа, — у него еще нет. Основным социальным злом и первопричиною социального неравенства Буонарроти, как и Бабёф, считают институт частной собственности, поэтому единственною коренною реформою социально-экономического строя Буонарроти считает уничтожение института частной собственности.
И Бабёф, и Буонарроти — принципиальные, решительнее и последовательные коммунисты, но не коммунисты утопические, мечтательные, кабинетные, как многие социалистические прожектеры ХVIII или XIX столетий, а коммунисты дела, действия, фактического осуществления cвоих замыслов, словом, коммунисты-революционеры. Активность Бабёфа, Буонарроти и всех их единомышленников — «равных» или бабувистов, вполне революционна. Вот черта, резко и определенно отличающая и Бабёфа, и бабувистов от всей группы социалистически мыслящих в ту эпоху.
Можно установить генеалогию революционизма до и от Бабёфа. Родоначальником революционного направления в социализме необходимо считать французского священника Жана Мелье (1664—1729) [b], психологического предшественника бабувистов. После «равных» на той же позиции оказываются: Луи Огюст Бланки (1805—1881) [c] и Карл Маркс и левые марксисты [d]. Все они отличаются от других и родственны между собою как своим методом трактовки социальной проблемы, так и своею особою тактикой при проведении в жизнь социалистического идеала [e]. Между всеми названными представителями революционной практики, между вершинами возглавляемых ими революционных волн, — одна общая связующая их нить, которая определённо отличает их от их современников: это их революционная активность, их революционизм.
Своим несколько приподнятым и несколько старомодным языком, сохранившим поэтический аромат своеобразной прелести печальной эпохи угасания революции, Буонарроти подробно рассказывает интимную историю великой трагедии, известной нам под именем «заговора равных». Перед нами проходят картины подлинной истории, картины возникновения и развития этого заговора, этапы его назревания и причины его ошибок и роковой неудачи. Переводчик удачно сохранил тон подлинника. Мы читаем, как клубок заговора сложился в начале III года, в тюрьме Плесси, где встретились ветераны революции: Бабёф, Жермен, Буонарроти, Клод Фике, Леблан, Антоанелль, Лепелетье. Их патриотизм и эгалитарные принципы были раздражены изданием проекта новой конституции, предложенной Конвенту 5 мессидора III года. Признавая единственную Конституцию — Конституцию 93-го года, «Конституцию Народа» — они в каждой попытке изменений видели или святотатственное поползновение аристократии на суверенные права или контрреволюцию. Заключённые в проекте усмотрели укрепление цензового начала и ненавистные им принципы «роскоши и нищеты». Тюрьма превратилась в Законодательное Собрание, проект был осужден как «аристократический», т. е., по понятиям того времени — враждебный народу. Волнения в тюрьме, а затем и споры освобожденных, заключенных между собою разделили их на две группы: более умеренную, или «патриотов», и более решительную, принципиальную и непримиримую, или «равных».
Так родилась знаменитая отныне в европейской истории группа (группа les égaux или «равных»), явившаяся представительницею той идеологии, которая наиболее ярко отразила черты активной революционности — группа Франсуа Ноэля Бабёфа. В память знаменитого римского трибуна Гракха Франсуа Ноэль получил наименование Гракха Бабёфа. Одною из важнейших сторон бабувизма является активное стремление во что бы то ни стало с оружием в руках, осуществить свои замыслы. Поэтому для понимания идеологии бабувизма нам лучше всего ознакомиться с ним при рассмотрении именно его активности, лучше всего выясняющейся при том выступлении, которое и носит наименование «заговора равных».
Буонарроти внимательно, шаг за шагом прослеживает судьбу этого заговора, от первой встречи «равных» после их освобождения из тюрьмы до формирования первых кадров заговорщиков в подземелье сада заброшенного аббатства святой Женевьевы. Поблизости находился знаменитый Пантеон, имя которого перешло к новым заговорщикам из сада св. Женевьевы. Там «равные» стали «пантеоновцами», избравшими вскоре своих руководителей: Комитет, Инсуррекционное бюро и в противовес ненавистной им легальной — свою тайную Директорию. Комитет возникает первоначально вне этого района, на улице Клери, на квартире заговорщика Амара. Комитет был обучен и стройно организован и скоро выделил из своего состава особый боевой отряд, или «военную группу». Он ставил своей общей задачей необъятную и смелую цель — уничтожение частной собственности, а через это и неравенства, а ближайшею — захват власти. Уничтожение частной собственности не являлось теоретической мечтою; пантеоновцы искренне думали и убежденно исповедовали, что без этой «коренной реформы» «равные» не найдут путей осуществления намеченного ими социального преобразования. Широкая публичная агитация пантеоновцев привела к закрытию их организации. Исполнителем приказа Директории был молодой генерал Буонапарт.
Но пантеоновцы не дремали — не дремала и Директория [f]. В их среду скоро проникли многочисленные правительственные агенты, провокаторы по духу и приемам. Лавры всех затмил капитан Жорж Гризель, проникший в душу заговора — в тесную среду заговорщиков, отсюда в ее верхи — в Тайную директорию, — и наконец, в ее сердце — в Военный комитет. Наступили немногие дни агонии большого заговора, задевшего почти 17 тысяч человек. Широта заговора, общее сочувствие и уверенность в правоте своего дела ослепили заговорщиков, уже писавших первые воззвания в качестве победителей: они очнулись только после ареста, 21 флореаля IV года. Наступило тревожное время суда: всколыхнувшееся море не сразу остановилось.
Автор этой книги — друг Бабёфа — итальянец Филиппо Буонарроти — был тоже арестован; он прослушал обвинительный акт, просидел на скамье подсудимых весь судебный процесс, прослушал речи подсудимых и защитников и вынесенный им приговор. И все это затем восстановил впоследствии как по памяти, так и по сохранившимся записям и документам. Вообще литература знаменитого дела «группы равных» не велика. Основными источниками до сих пор являются два французских сочинения — Адвиэля и Буонарроти.
Первое большое двухтомное, содержащее массу копий с документов и перепечатку актов процесса, переиздавать в виду его размеров и характера не стоит; второе — краткое, писанное почти по памяти современником и ближайшим соучастником наговора. Эта книжка впервые появилась еще при Реставрации, в Брюсселе, в 1828 г. и 4 раза переиздавалась: дважды в Лондоне и Брюсселе, третий раз в Париже в 1830 г., в четвертый раз, сокращенное в 1842 г. Пятое издание полное (Charavay’я) в 1850 г. и шестое, с которого сделал настоящий перевод, в 1869 г. издано А. Ранком [I].
Книга ценна не только потому, что принадлежит перу участника заговора (мнение Е. В. Тарле), но и потому, что приводит ряд документов и фактов, известных только благодаря Буонарроти. Он действительно «занят прежде всем внешнею историею заговора и процесса и перепечаткою (опубликованием?) некоторых документов из числа напечатанных по приказу Директории перед процессом». Буонарроти действительно ничего не говорит о пропаганде в рабочих предместьях и об успехе или неуспехе этой пропаганды и, излагая идеи Бабёфа, не анализирует, какие именно из них Бабёф считал более пригодными для возмущения народа против Директории, а какие менее, но это, по сути, и неважно: население рабочих предместий давно уже относилось к делу революции пассивно.
Книжка Буонарроти, кроме описания, дает и самый стиль эпохи, ее несколько торжественный и условный пафос, характерный для того времени. Этот аромат взволнованных дней умирающей революции в часы наступающей общей реакции передан и автором, и его переводчиком очень удачно. Колорит грусти и печали об утрате идеалистических стремлений невольно передается читателю, не поленившемуся окунуться в волны несколько старомодных сентенций.
Книга Адвиэля «Histoire de Gracchus Babeuf et le babuvisme» появилась — первый том в 1883 г., второй — 1884 г. В первом — биография и изложение учения, во втором — защитительная речь Бабёфа на суде и переписка с Дюбуа де Фоссе, секретарем Аррасской академии, где начал Бабёф свою научную деятельность.
В общих историях Великой Французской Революций материалов о Бабёфе искать не приходится. В них ничего о «равных» и о бабувизме нет — и по неподготовленности авторов, и по манере их трактовать историю этой эпохи. Революционное восстание против собственности нарушало рамки их исследований.
Дело Бабёфа до сих пор [II] недостаточно изучено [g]. Надо извлечь из картонов Национального музея прокламаций Бабёфа, нужно изучить его статьи и журналы. Как известно, Бабёф выпустил 43 номера своей «Народной трибуны» [III] и 7 номеров популярной — «Просветитель народа» [IV] («L'Éclaireur»). Оба издания — величайшая библиографическая редкость.
Эпоха наложила свою тяжёлую руку на дни Бабёфа: политические интересы дня утопили в волнах минуты то важное, социальное, что, как пульс нетления, билось в этом деле. Этот пульс был подхвачен апостолом бабувизма в XIX веке — Бланки.
Луи Огюст Бланки донес заветы Бабёфа до сложных дней к развитию капиталистического общества, привив к ним и свое отношение, и свой энтузиазм. Бланкизм есть прямое продолжение бабувизма. Karl Diehl в своей книге «Über Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus» (Jena, 1922) проводит линию еще дальше: он указывает, что большевизм в числе составных частей своего мировоззрения содержит и бланкизм. Так Бабёф протягивает руки нашей современности.
Проф. В. В. Святловский [V]
Петроград, 1922
Примечания
[a] Ср. Bonnet Ch. Le Babouvisme et la Révolution française. P., 1907.
[b] О Ж. Мелье у нас писали: Волгин В. П. «Революционный коммунист ХVIII в.» в журнале «Голос минувшего» № 1—3 за 1918 г. и отдельно: М., 1919; Горбач К. М. «Жан Мелье» в «Записках научного общества марксистов», 1922; Шахов в книге «Вольтер и его время». СПб. 1912; сборник «История социализма» под редакцией К. Каутского, т. II (статья К. Гуго). СПб. 1909.
[c] Об О. Бланки у нас писали: В. М. Бонч-Бруевич и Горев; недавно по-русски вышел перевод книжки Зеваэса (О. Бланки). Пг. 1922.
[d] Т. е. В. И. Ульянов, Франц Меринг, Карл Либкнехт, Роза Люксембург.
[e] Ср. Werthley U.G. Babeufs place in the history of socialisme в «Public Amer. Econ. Assoc». 1907. Также Merkee E. Mittel und Wege zur Lösung der sozialen Frage. 1905; Orano P. Il patriarca del socialismo. Рим 1904.
[f] Е. В. Тарле в своей монографии «Рабочий класс во Франции в эпоху революции» приводит ряд полицейских донесений по этому делу: «Записки историко-филологического факультета Петроградского [VI] университета». Ч. 100. СПб. 1911. Том II. См. также его «Очерки и характеристики». СПб., 1901. По-русски об этом эпизоде, вызвавшем мало литературных работ, можно еще прочесть: Тома А. Бабёф, заговор равных. СПб. 1901 г. и главу из книжки Поля Луи «Французские мыслители и деятели XIX в.», СПб., 1906 г., где приведены некоторые выдержки из прокламации Бабёфа.
[g] Thomas A. Babeuf. La doctrine des Égaux, Париж, 1896; также «Babeufs Sozialistischen Ideen vor Verschwörung der Gleichen» в «Documents der Sozialismus». 1904/05.
 |
Среди партий, окрасивших Французскую революцию в столько различных цветов, есть одна, которая должна привлечь особенное внимание ученого, благодаря постоянному самопожертвованию, с которым она отдавала все свои силы на пользу реального освобождения человечества. Честолюбие, зависть, жадность и неразумная любовь к нововведениям вызывали жалкую борьбу между такими людьми, одни из которых сражались за восстановление бывшей монархии, другие — за возведение на трон Франции новой династии, а третьи — за передачу власти от одной касты к другой (но и те и другие исключительно вследствие стремления к власти и к тем наслаждениям, источником которых она является), но кроме них мало-помалу образовался класс граждан, которые в силу самых разнообразных побуждений также желали крупной политической перемены, но перемены, идущей вразрез со взглядами и страстями стольких подстрекателей, заинтересованных в гражданской смуте.
В самом деле, многие политические партии старались дать Франции новые формы управления, но мало людей стремилось к полной реформе общества ради блага народной массы.
Таким образом, толпа лиц, фигурировавших на революционной сцене, ограничивала свои усилия к преодолению одного порядка другим, не слишком занимаясь судьбой тех, ради чьей пользы должно существовать всякое законное правление; и поэтому столько мнимых законодателей думали, что они основывают республику, на том лишь основании, что они осудили короля и подменили власть одного властью многих.
Причиною наших разделений во время революции было различие принципов и интересов. Между тем как одни защищали какую-либо систему потому, что они находили ее хорошей, другие, — а их было гораздо больше, — другие устремились в ту партию, которая, как им казалось, наиболее благоприятствовала их видам на богатство и почести: первые неуклонно шли по раз намеченному ими пути, вторые изменяли поведение в зависимости от обстоятельств и страстей.
Только с течением времени можно было установить индивидуальный характер каждой отдельной политической группы, потому что многие из них могли казаться действующими в одном направлении, пока им приходилось бороться с общим врагом. Каждый шаг вперед вызывал появление новой оппозиционной группы, заинтересованной в поддержке тех пороков, против которых этот шаг был направлен.
Если на заре революции некоторые дворяне из Учредительного собрания казались друзьями народа, то, как только прозвучали первые голоса за настоящее равенство, они не замедлили вступить на путь оппозиции; если иные восстали против царствующего дома с намерением поставить на его место другой, то они выстроились под королевскими знаменами, когда у всех династий вообще была отнята всякая надежда; если священники приветствовали борьбу с узурпациями высшего духовенства, то они стали самыми ярыми проповедниками фанатизма, как только нация отказалась поддерживать какой бы то ни было культ; если лица, желавшие эксплуатировать конституционную монархию в свою пользу, выказывали себя из этих видов республиканцами, то они оказались в открытой вражде с самыми горячими защитниками республики, как только народ пожелал, чтобы власть стала всеобщим достоянием.
Среди бурь, которые неминуемо должны были вызываться соединением стольких враждующих стихий, люди, лелеявшие с самого начала революции надежду установить во Франции царство истинной справедливости, усердно пользовались случаем (который такое глубокое брожение часто предоставляло им), чтобы приучить своих сограждан к размышлению о своих правах и чтобы постепенно привести их к желанию падения всех порочных учреждений мешающих пользоваться этими правами.
Пока во Франции существовала монархия, республиканская партия казалась очень многочисленной, и хотя уже давно бросались в глаза существенные различия между лицами, группировавшимися тогда вокруг знамен республики, однако еще 10 августа 1792 года против двора сражалась толпа людей, которые затем разделились и между которыми нашлись лица, защищавшие впоследствии дело короля.
В числе лиц, сражавшихся против королевского правления, также среди лиц, приветствовавших их победы, попадались такие, которых к этому побуждала зависть, и такие, которые благодаря вероятности регентства или перемены династий надеялись на влиятельность в будущем. Однако все заставляет думать, что тогда многие действительно желали республиканского правления, хотя у них были большие расхождения и в представлении о нем и в страстях, побуждавших их его желать.
Все политические и общественно-экономические системы служили мотивом или предлогом раздоров в Конвенте. Одни превозносили гегемонию класса, пользующегося благами богатства и образования, другие считали существенным условием прочного счастья и спокойствия общества приобщение к суверенитету всех без исключения; те вздыхали по богатству, роскоши и великолепию Афин, эти желали умеренности, простоты скромности лучших дней Спарты.
Однако нельзя уяснить природы этих распрей одним сравнением с политическими системами древних, ее надо искать в наших нравах и наших познаниях в области естественного права. По моему мнению, явлением, следовавшим во Франции непосредственно за созданием республики, был взрыв всегда существующего разногласия между сторонниками достатка и отличий — с одной стороны, и друзьями равенства или многочисленным классом трудящихся — с другой.
Восходя к более отдаленным причинам, мы найдем источник споров, имевших место в данную эпоху, с одной стороны, в учении английских экономистов [1] а с другой — в доктринах Ж.-Ж. Руссо, Мабли и некоторых других современных ученых.
Вспомним, что многие писатели усматривали процветание нации в многочисленности ее потребностей, во все возрастающем разнообразии ее материального потребления, в обширной промышленности, в неограниченной торговле, в быстром обращении металлической валюты, а, в конце концов, в беспокойной и ненасытной алчности граждан. Иногда они отдавали предпочтение скоплению земельных богатств в руках немногих лиц, а иногда высказывались за увеличение числа мелких собственников; и между тем как одни считали нужду и огрубение производительной части населения необходимыми для достатка и спокойствия остальных, другие, предлагая неограниченную свободу промышленности и торговых сделок в виде противодействия установившемуся неравенству, прокладывали путь к новому соблазну и к новому неравенству. С тех пор как счастье и силу общества стали усматривать в богатстве, это неизбежно должно было привести к отказу в политических правах всем тем, кто не гарантирует своим имуществом своей преданности подобному порядку, считаемому наилучшим.
Во всякой подобной социальной системе значительное большинство граждан, обреченное на постоянный тяжелый труд, осуждено томиться в нужде, невежестве и рабстве.
Руссо провозгласил неотъемлемость прав человеческой природы, он защищал всех людей без различия, он усматривал благоденствие общества в счастье каждого из его членов, а силу его — в преданности всех законам.
По его мнению, богатство общества заключается в труде и умеренности граждан, а свобода основывается на могуществе повелителя, которым является весь народ; причем каждая составная часть общества сохраняет свое влияние (что необходимо для жизни социального организма) путем беспристрастного распределения прав потребления и просвещения.
Этот общественный порядок, подчиняющий воле народа частные поступки и частную собственность, поддерживающий полезные всем профессии, осуждающий те из них, которые выгодны меньшинству, развивающий без всяких предпочтений разум каждого, заменяющий алчность любовью к отечеству и славе, создающий изо всех граждан одну мирную семью и подчиняющий каждого воле всех и никого воле кого-нибудь одного, был во все времена предметом скрытных желаний истинных мудрецов и имел во все века славных защитников: таковыми были в древности Минос [VII], Платон, Ликург и основоположник христианства, а в более близкие времена — Томас Мор, Монтескье [2] и Мабли [3].
Порядок, провозглашаемый экономистами, назван эгоистическим или аристократическим, а порядок Руссо — порядком равенства.
Как только явилась возможность установить стремления различных политических групп, мятущихся на сцене революции, умы, введенные в заблуждение развращенными сердцами, присоединились к вождям эгоистического порядка, а руководимые прямотой чистые сердца необходимо должны были стать заинтересованными в полном торжестве порядка равенства.
Уже с первых дней революции друзья равенства, т.е. иначе говоря, справедливости, начали стремиться к подготовке его торжества, заранее становясь в оппозицию взглядам враждебных ему партий.
При Учредительном собрании они низвергли несправедливое разделение граждан на активных и пассивных, имущественный ценз, требуемый как условие избираемости в национальное представительство, а также королевское veto и военный закон; они громили зараз и явных роялистов и тех, кто скрывался под маской патриотизма; они предлагали прогрессивный налог, восставали против реабилитации короля после его вынужденного возвращения из Варенна; они поддержали мужество патриотов, готовое исчезнуть после резни на Марсовом поле [VIII], и разоблачили аристократические заговоры тех, кто коварно требовал республиканского правления; при первом законодательстве они указали на отставку патриотов, находившихся на военной службе; показали в объявлении войны Австрии скрытую ловушку [IX]; заставили наградить швейцарских солдат за Шато-Вьё [X]; разоблачили притворство двора, преступления министров, измены Нарбонна [XI] и гибкость поведения Жиронды; они сохранили тот священный огонь, который сильные и богатые хотели задушить клеветой и преследованиями.
Особенно после 10 августа 1792 года [XII] вышеуказанные люди предались самым многообещающим надеждам и удвоили усилия к обеспечению торжества своего возвышенного дела. К достоинствам теории Ж.-Ж. Руссо они присоединили смелость применения ее к двадцатипятимиллионному населению. В то же время борьба между друзьями равенства и сторонниками эгоистического порядка стала более определенной и более воодушевленной. Тогда публично поддерживается проект управлять под видимостью республиканских форм государством, сконструированным по монархическому образцу, на сторону этого проекта стали лица, опасавшиеся потерять при политических кризисах то, чем они пользовались до сих пор, и так как то же опасение приобщало их и к роялизму, то вожди подобной республики подверглись обвинению в заговоре для восстановления монархии. И так велики были количество и влияние искренних друзей равенства, не сраженных еще кинжалами аристократии, так велики были энергия, поддерживаемая в массах надеждой на близкое улучшение, и сила лиц, рассчитывавших стать на место прежних господ и потому сделавшихся лицемерными апостолами невыносимого ими равенства, что сторонники эгоистического порядка подверглись нападению и были побеждены и приведены к молчанию: как раз это обстоятельство вызвало до 31 мая 1793 года [XIII] расхождения в Национальном Конвенте, а после этого памятного дня — гражданскую войну.
Непосредственным следствием победы 10 августа были некоторые успехи общественного дела: вскоре после падения трона пользование политическими правами было предоставлено всем гражданам, все были объявлены избираемыми на общественные должности, и торжественно было признано, что никакая конституция не может быть дана народу без его согласия. В то же время закон освобождал брак от той приводящей в отчаяние нерасторжимости, которая часто делает его противным счастью отдельных лиц и семей, а также роковым для нравов и свободы. Фактом достойным внимания является увеличение или уменьшение энергии нации в деле защиты революции соответственно тому, поощряют ли законы равенство или же уклоняются от него. Несправедливо презираемый трудящийся класс проявил при данных обстоятельствах чудеса самопожертвования и доблести, а почти все остальные постоянно только затрудняли возрождение общества.
Нет никакого сомнения, что эгоистический или аристократический порядок имел в Конвенте многочисленных и умелых защитников; это доказывают и коварные речи и писания Верньо, Гаде, Рабо, Бриссо, Горса, Кондорсе, Ланжюинэ, Луве, Барбару и многих других той же окраски [XIV]; это доказывает их связи с Нарбонном, Дюмурье [XV], Кюстином [XVI] и другими генералами-изменниками; их постоянная оппозиция установлению прогрессивного налога; их усиленный интерес к королю, преданному суду нации; их враждебные действия против сторонников демократии; их старание внушить ужас богачам и нечестным людям — это доказывают и пламя вражды, распространенное ими по всей Франции, и их упорные настояния узаконить их антинародные принципы.
Дело было в том, чтобы рождающейся республике дать конституцию; все чувствовали потребность в нормальной власти, и было довольно обычной мыслью, что достаточно одного правильного разделения властей, чтобы обеспечить народу столь желанные блага равенства и свободы. Однако наиболее проницательные из друзей равенства не разделяли этого мнения. Что бы там ни говорили, но аристократы более торопились работать над этой конституцией, чем друзья равенства, которые, оказываясь в меньшинстве, чувствовали, что без события, способного испугать их противников, не только нельзя провести гражданскую реформу, но даже невозможно установить организацию, основанную на равенстве политических прав. Рвение аристократов было ветвью обширного заговора против естественных прав людей, и прежде чем рассчитывать на успех усилий горсточки честных людей, надо было удалить главных вожаков этого заговора [4].
Против многочисленных заговорщиков, пробравшихся на главные места в Республике, тоже были составлены заговоры: они были составлены во имя защиты неотъемлемых прав человечества от его врагов — гордости и скупости; и между тем как аристократы, находившиеся в Конвенте, давали сигнал ко всеобщему уничтожению друзей равенства, называемых ими анархистами, народ Парижа вселил ужас в сердца вероломных депутатов и заставил [5] их предать вождей заговора суду нации.
Свобода Конвента подверглась насилию, чтобы спасти свободу народа, права представителей были подавлены, чтобы заставить уважать суверенитет нации, над которым большинство из них бессовестно издевалось.
Нет непосредственных письменных сообщений, речей и фактов, которые доказывали бы реальность этих козней, но их легко обнаружить в коалиции почти всех богачей против революции 31 мая 1793 года и в быстроте, с которой с того времени стали распространяться демократические принципы.
Не следует думать, что французские революционеры вкладывали в понятие требуемой ими демократии античный смысл. Никто во Франции не намеревался призывать весь народ к обсуждению государственных актов. С их точки зрения, демократия — это такой общественный порядок, при котором равенство и добрые нравы дают народу возможность продуктивно пользоваться законодательной властью.
Последующие события, я думаю, достаточно доказали, что демократы никогда не были многочисленны в Национальном Конвенте; многого не доставало для того, чтобы восстание 31 мая передало верховную власть одним только искренним друзьям равенства, казалось, что теперь восторжествовали его фальшивые и лично заинтересованные защитники, деятельно разрушая все ради собственных выгод, они примкнули к системе, которую они ниспровергли, когда надо было все перестраивать для народа.
Среди людей, блиставших на революционной арене, были такие, которые с самого начала высказывались за реальное освобождение французского народа. Марат, Максимилиан Робеспьер и Сен-Жюст доблестно фигурируют вместе с еще некоторыми в почетном списке защитников равенства. Марат и Робеспьер открыто нападали на антинародную систему, бравшую верх в Учредительном собрании, и руководили до и после 10 августа действиями демократов; попав в Конвент, они подверглись ненависти и клевете партии эгоизма, которую они приводили в замешательство; при суде над королем они поднялись до самой высокой философии и принимали деятельное участие в событиях 31 мая и последующих дней, счастливое влияние которых было в конце концов уничтожено фальшивыми друзьями равенства.
До падения жирондистской клики Робеспьер считал, что управляемый ею Конвент не в состоянии дать хорошие законы; впрочем, он думал, что в критических обстоятельствах того времени первой задачей представителей народа должно быть уничтожение многочисленных врагов, извне и изнутри угрожавших существованию республики; но видя, что жирондисты спешат легализовать свои аристократические принципы, он противопоставил их проектам свою «Декларацию прав» [XVII], в которой его демократические намерения проявляются уже совершенно открыто. Сближая политические учения, заключавшиеся в этом произведении, и в речах, произнесенных Робеспьером в последние годы его жизни, с его моральной чистотой, с его самопожертвованием, с его мужеством, с его скромностью и его редким бескорыстием, приходится воздать глубочайшее уважение столь высокой мудрости, и можно только ненавидеть извращенность или оплакивать непонятное ослепление тех, кто замыслил и совершил убийство.
Однако конституция 1793 года, составленная вслед за восстанием 31 мая той партией Конвента, которую тогда называли Горой, не вполне отвечала пожеланиям друзей человечества. К сожалению, в ней находишь старые приводящие в отчаяние взгляды на право собственности. Впрочем, политические права граждан там ясно провозглашены и прочно гарантированы, всеобщее образование отнесено там к обязанностям общества; она легко допускает изменения в пользу народа, и пользование народа суверенитетом обеспечено в ней больше, чем где бы то ни было. Следует ли осторожность, проявленную в конституции, и скрытность депутатов, друзей равенства относительно их взглядов на будущее приписать их благоразумной осмотрительности, требуемой враждебностью позиции возбужденных жирондистами богачей, или же все это объясняется влиянием эгоистов на совещаниях Национального Конвента?
Как бы то ни было, не менее верно, что право народа обсуждать законы, что зависимость представителей народа от его директив и что почти единогласное утверждение конституции 1793 года заставили рассматривать эту конституцию как палладий французской свободы.
Но некоторые из лиц, причастных к редактированию этой конституции, которую впоследствии патриоты назвали демократической, чувствовали, что одной ее недостаточно для обеспечения желанного французам счастья, они думали, что пользованию свободой должна предшествовать реформа нравов, они знали, что прежде чем вверить народу суверенитет, следует сделать любовь к добродетели всеобщей, следует бескорыстие и скромность поставить на место алчности, тщеславия и честолюбия, поддерживающих вечную войну между гражданами, следует уничтожить установленное нашими учреждениями противоречие между потребностями и любовью к независимости и вырвать у природных врагов равенства средства обманывать, запугивать и разделять; они знали, что принудительные и чрезвычайные меры, необходимые для проведения такой счастливой и такой великой перемены, непримиримы с формами правильной организации; наконец, они знали (и впоследствии опыт даже слишком оправдал их точку зрения), что устанавливать конституционный порядок выборов без этих предпосылок значит оставить власть на защитников всяких злоупотреблений и навсегда потерять случай упрочить общественное счастье.
Поэтому по просьбе 8000 послов народа они до заключения мира заменили конституцию 1793 года такой формой власти, которая сохраняла за начавшими это великое дело право окончить его и одновременно ставила на место превратностей открытой войны против внутренних врагов свободы законные и быстрые способы к обессилению этих врагов. Эта форма была названа революционным правлением и имела вождями членов того Комитета общественного спасения, которому человечество чуть было не оказалось обязанным своим полным воскрешением.
Честные души не могут не признать глубокую мудрость, с которою французская нация направлялась тогда к такому положению, при котором она, получив равенство, могла бы мирно пользоваться свободной конституцией. Выше всяких похвал та осторожность, с которою знаменитые законодатели, искусно использовавшие и победы и поражения, сумели внушить большинству нации самое возвышенное самоотречение, презрение к богатству, к удовольствиям и к смерти и побудить его провозгласить, что все люди имеют равные права на произведения земли и промышленности.
И кто сможет стереть со страниц истории ту удивительную метаморфозу, в силу которой столько людей, еще недавно падких на удовольствия, жадных, легкомысленных и надменных, добровольно отказались от тысячи искусственных наслаждений, стали наперерыв слагать свой избыток на алтарь отечества и обрушились массами на королевские армии и за все это потребовали только хлеба, оружия и равенства. Эти факты, засвидетельствованные бесчисленными воззваниями, донесениями и декретами, гласными протоколами, летописями Франции, еще нерассеявшимся ужасом аристократических классов и нашими собственными воспоминаниями, сами отвечают на ложь, клевету и софизмы, которыми старались очернить этот блестящий отдел французской истории. Какая великая будущность могла бы быть у народа, которому сумели внушить столь доблестную преданность! Какие разумные учреждения должны были ожидать Францию и весь мир благодаря советам тех лиц, которые стояли во главе столь великих событий!
Со времени обнародования конституционного акта 1793 г. и декрета, создавшего революционное правление, власть и законодательство становились с каждым днем все популярнее. Французский народ был охвачен энтузиазмом, столь же священным, как и беспримерным; бесчисленные армии возникали как по волшебству, республика стала обширной военной мастерской, молодежь, люди зрелого возраста и даже старики соперничали друг с другом в патриотизме и мужестве, опасный враг был отбит от границ, захваченных им силою или преданных ему изменою.
Крамола внутри была подавлена, и ежедневно создавались законодательные меры, направленные к поднятию надежды в многочисленном классе несчастных, к поддержке в нем доблести и к установлению равенства. Избыток шел на неимущих и на защиту родины.
Путем реквизиций съестных припасов и товаров, путем принудительных займов, революционных такс и обширной благотворительности добрых граждан поддерживалось существование 14 000 солдат и народа, дерзания которых богачи рассчитывали взять измором.
Учреждение запасных магазинов, законы против перепродажи, провозглашение закона, делавшего народ собственником предметов первой необходимости, законы об уничтожении нищенства, законы о распределении национальных имуществ и коллективное потребление, фактически существовавшее тогда во Франции, были одним из предварительных пунктов нового порядка, план которого обрисован неизгладимыми чертами в знаменитых донесениях Комитета общественного спасения, и особенно в тех из них, которые были провозглашены Робеспьером и Сен-Жюстом с национальной трибуны.
Чтобы лучше оценить революционное правление Французской республики, надо освободиться от предрассудков, порожденных политическими системами, предшествовавшими революции и во все времена приносившими на землю несчастия и преступления. Мудрость, с которою оно подготовило новый порядок распределения имущества и обязанностей, может ускользнуть от взоров здравомыслящих людей. Не одно только выражение благодарности нации увидят они в разделе земель, обещанных защитникам родины, и в декрете, проводящем раздел между бедняками имущества врагов революции, подлежащих изгнанию с французской территории. Они увидят в конфискации имущества осужденных контрреволюционеров не фискальную меру, но обширный план преобразователя. Рассмотрев ту заботливость, с которою проповедовались чувства братства и благотворительности, ту умелость, с которой были изменены наши идеи о счастье, и ту осторожность, которая во всех сердцах зажгла доблестный энтузиазм к защите отечества и свободы, они восстановят в своей памяти уважение, оказанное простым и добрым нравам, осуждение завоеваний и роскоши, большие народные собрания, проекты всеобщего обучения, Марсовы поля, национальные празднества; они подумают об учреждении того возвышенного культа, который, соединяя отечественные законы с божественными предписаниями, удваивал силы законодателя и дал ему возможность подавить в короткий срок все предрассудки и провести в жизнь все чудеса равенства [6]; они вспомнят, что, завладевая внешней торговлей, Республика подорвала корни самой пожирающей алчности и осушила самый глубокий источник искусственных потребностей; они примут во внимание, что благодаря реквизициям Республика располагала наиболее крупной частью произведений земледелия и промышленности, и что продукты и торговля уже тогда составляли две большие ветви общественной администрации — и после всего этого они будут вынуждены воскликнуть: «Еще момент, и всеобщее счастье и свобода были бы обеспечены учреждениями, которых они неустанно требовали».
Но судьба решила иначе, и дело равенства, никогда еще не имевшее столь большого успеха, должно было еще раз пасть под соединенными усилиями всех антисоциальных страстей.
Тем, кто благородно дерзал взять на себя столь славное начинание, предстояло одновременно поразить и заблуждения слабых людей и интриги той недобросовестности, жертвами которой они стали в конце концов.
Одни думали, а другие притворялись думающими, что революционное правительство, временно и частично приостановившее для граждан пользование политическими правами, существенно угрожает свободе нации: эти люди больше вредили отечеству своими софизмами, вводившими в заблуждение многих честных граждан, чем заговорами, которые они составляли против главных руководителей реформы.
К несчастью, умы, пропитанные теориями свободного и мирного общественного порядка, вообще с трудом понимали природу чрезвычайной и неизбежной власти, той, которая одна могла ввести нацию в полное обладание свободой, несмотря на испорченность, являющуюся следствием прежнего рабства, и несмотря на западни и враждебность внутренних и внешних врагов, злоумышляющих против Франции.
Ложные друзья равенства, принципы которого они пропагандировали, имея в виду сохранить за собою возможность утолять свою алчность, побледнели при наступлении дня, когда все должно было осесть и согнуться под давлением морали. Одни злоупотребляли властью в парламенте и в армии, другие поверили в передачу богатств в пользу революционеров, из которых они хотели сделать новый привилегированный класс, иные были обвинены в получении из-за границы платы за свои преступные деяния [7].
Эта партия злоумышляла также против основоположников демократических учреждений. Она пала, и ей пришлось увидеть гибель нескольких из своих вождей; но те, кто их пережил, присоединились к угрожавшему им голосу национального правосудия, любезничали с врагами революции всех окрасок, поддерживали заблуждающихся патриотов, которым внушали опасение потери народного суверенитета, и ловко вводили в игру зависть к заслугам; они указывали на добровольное преклонение пред добродетелью как на признак невыносимой тирании, и им удалось при помощи самой нелепой клеветы добиться 9 термидора II года убийства тех депутатов, которым французский народ был обязан большей частью своих успехов в деле завоевания прав.
С того времени все было потеряно. Чтобы оправдать свое преступление, лица, содействовавшие событиям данного дня, были вынуждены исказить в главных пунктах обвинения принципы, поведение и заслуги своих жертв. Корыстолюбивые проповедники демократических принципов и прежние сторонники аристократии пришли к соглашению. Несколько голосов, напомнивших об учении и учреждениях равенства, стали рассматриваться как гнусные вопли анархии, разбоя и террора.
Власть была захвачена теми, кто прежде (к общему благу) был стеснен; и, чтобы отомстить за унижения, которым они раньше подвергались, они предали долгим и кровавым преследованиям заодно с друзьями равенства и тех, кто проповедовал его из-за личных выгод, и даже тех, кто из зависти, измены или ослепления так сильно содействовал контрреволюции 9 термидора.
Лишь только революционное правление перешло в руки эгоистов, оно сделалось настоящим бичом общества! Его поспешная и ужасная деятельность, которая могла бы стать законной только при честности его вождей и при совершенно демократическом духе их намерений, стала не чем иным, как ужасной тиранией — и по своим целям и по форме: она все деморализовала, она вернула роскошь, изнеженные нравы и хищничество, она расточила общественное достояние, извратила принципы революции, а тех, кто искренно и бескорыстно защищал ее, предала мести своих врагов.
Старания господствующей партии были тогда, по всей очевидности, направлены на поддержку неравенства и на восстановление аристократии. Отняв у народа надежду на справедливое законодательство и ввергнув его в неуверенность и малодушие, она замышляла вырвать у него и последние слабые остатки его суверенитета. Насколько друзья равенства желали до 9 термидора сохранения революционного правления во всей его чистоте, настолько после его падения они хотели заменить его конституцией 1793 года, против которой была направлена деятельность аристократии; отчаиваясь в успехе равенства, они желали дать народу по крайней мере его политические права.
Таков был мотив движения 12 жерминаля III года и парижского восстания 1 прериаля. Неуспех этих дней удвоил ярость врагов свободы и значительно увеличил число добрых граждан, переполнявших тюрьмы и убираемых по всей Республике.
Массовое заключение друзей свободы в тюрьмы и частое перемещение их из одной тюрьмы в другую доставили им возможность большего ознакомления и более тесной связи друг с другом. Тюрьмы Парижа, в частности тюрьмы Плесси и Четырех наций [XVIII] (Quatre Nations), были тогда очагами большого революционного брожения.
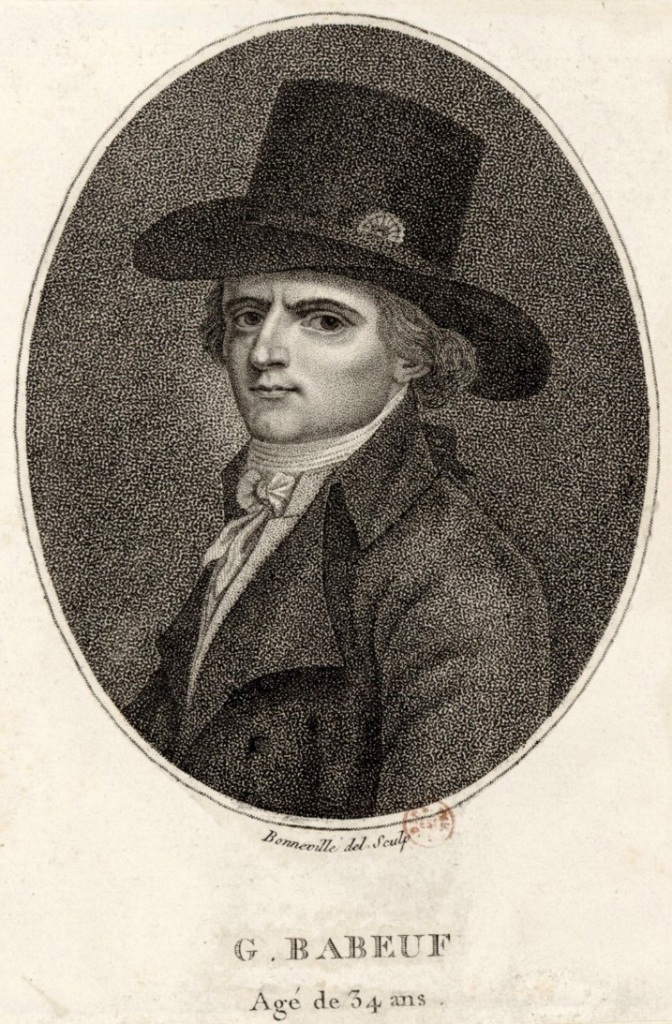 |
Там встретились главные действующие лица того заговора, события которого я намереваюсь описать, в флореале III года в Плесси были заключены: Дебон, Лоржан де Дюамель, Бертран, экс-мэр Лиона, Фонтенель, Фийон, Ганнак, Симон Дюплей, Бодсон, Клод Фике, Массар, Буен, Моруа, Шентрар, Гуляр, Ля Тильм, Револь, Гольсен, Ривагр, Жульен Дезарм, Делос, Тенай, Бабёф, Жермен [XIX], Буонарроти, члены народной комиссии в Оранже, члены революционных трибуналов Аррасса, Камбре, Анжера, Ренна и Бреста, члены революционных комитетов Парижа, Нанта, Невера и Мулена, и многие другие демократы изо всех департаментов.
Из этих тюрем разлетались те искры, которые столько раз заставляли бледнеть новую тиранию. Я достоверно знаю, что восстание 1 прериаля III года [XX] было в значительной мере делом рук многочисленных граждан, заключенных в Плесси; особенно указывали на Клода Фике и Леблана [8], впоследствии комиссара директории в Сан-Доминго.
Если этот неоспоримый факт соединить с напечатанным «Актом», подававшим сигнал к восстанию, а также учесть требования повстанцев и политическую физиономию депутатов, поддерживавших эти требования, то этого будет достаточно, чтобы стереть те пятна роялизма, которое даже писатели-патриоты старались наложить на главных зачинщиков этого несчастного дня, чтобы сохранить жизнь друзей свободы, преданных самому кровавому преследованию. Это преследование было настолько всеобщим и настолько яростным, что среди граждан, тысячами брошенных в тюрьмы Парижа, нашлось много лиц, относившихся безразлично или даже враждебно к торжеству той партии, в принадлежности к которой их обвиняли.
Тогда недра этих тюрем приняли вид столь же трогательный, как и небывалый. Люди, ввергнутые туда аристократией, жили там просто и в самом тесном товариществе, гордились своими цепями и своей бедностью как результатом патриотического самопожертвования, предавались труду и учению и беседовали только о бедствиях отечества и о способах прекращения их. Гражданские песни, которыми они дружно оглашали воздух, собирали по вечерам вокруг этого печального местопребывания толпу граждан, привлекаемых любопытством или сходством своих чувств с чувствами заключенных.
Уничтожение закона, данного народом, было, наконец, совершено комиссией, которой поручено было озаботиться выполнением этого закона. Проект новой конституции, предложенный этой комиссией Национальному Конвенту 5 мессидора III года, стал для заключенных патриотов важным пунктом обсуждений: все его положения рассматривались ими с большей зрелостью, чём в каком-либо первичном собрании. Вот мнение, составленное ими о нем.
Если бы предлагаемая конституция, говорили они, могла оставить какие-либо сомнения относительно духа своих авторов, то они вполне рассеялись бы знанием предшествующих ей отношений. Этот дух весь в следующих словах: сохранение роскоши и нищеты. Поэтому это произведение рассматривалось как конечный результат покушений эгоистической партии.
За исключением статьи, ставившей земельную собственность условием избираемости в национальное представительство, и статьи, запрещавшей избрание на высшую должность лиц, не прошедших предварительно через низшую, проект, комиссии был принят и являлся для французской нации основным законом вплоть до 18 брюмера VIII года.
 |
Достаточно самого поверхностного рассмотрения, чтобы убедиться в том, что принцип сохранения роскоши и нищеты являлся фундаментом всех частей этого здания. Прежде всего, чтобы заглушить все притязания и чтобы навсегда закрыть все пути к благоприятным для народа нововведениям, у него отнимают или сокращают его политические права: законы составляются без его участия и без возможности как-либо критиковать их; конституция связывает навсегда как его, так и его потомство, потому что ему запрещено изменять ее; она охотно провозглашает народ сувереном, однако всякие обсуждения с его стороны объявляет мятежными, туманно поговорив о равенстве прав, конституция отнимает право гражданства у целой массы граждан, а право назначения на главные государственные должности сохранены исключительно за зажиточными людьми; наконец, чтобы навсегда сохранить это несчастное неравенство — источник безнравственности, несправедливости и угнетения — авторы этой конституции устраняли с величайшей заботливостью всякое учреждение, способное достаточно просветить всю нацию в целом, образовать республиканскую молодежь, уменьшить разрушения, производимые скупостью и честолюбием, поставить общественное мнение на верный путь, улучшить нравы и высвободить народные массы из-под трусливого господства праздных и честолюбивых богачей. Эти вопиющие нарушения всеобщих прав и презрение к основным обязанностям народа-законодателя были облачены перед французским народом Антонеллем в сочинении, называющемся «Рассуждение о правах гражданства», и Феликсом Лепелетье [9] в его «Мотивированном вотуме на конституцию III года». Конвент объявил, что новая конституция была принята народом. Однако при поверке голосов царила крайняя сбивчивость, и результатом этой операции, а также и других общественных событий было то, что голосующих оказалось очень небольшое количество, что много граждан было изгнано из собраний и что эту конституцию наиболее горячо принимали лица, бросавшиеся в глаза своим эгоизмом и часто обвинявшиеся в заговорах для восстановления королевской власти.
Не следует забывать очень реального распадения эгоистов на консерваторов и на воинствующих, вспомним, что эти последние почти постоянно до 9 термидора II года следовали примеру искренних друзей равенства и навлекли этим на себя ненависть контрреволюционеров. Члены Конвента, называвшие себя тогда патриотами, почти все принадлежали к последнему классу.
Теперь ненависть к революции зашла так далеко, что преследование, тяготевшее сначала только над бескорыстными друзьями революции, нависло в конце концов даже над провокаторами, недавние преступления которых не могли заставить забыть о видимости их прежней добродетели. Благородные люди из хороших семей, добрые буржуа не снисходили до того, чтобы сидеть рядом с бывшими террористами, отягощёнными наследием аристократов. Все без различия члены Конвента были преданы ярости врагов революции, их обвиняли в терроре или в попустительстве таковому, и если были сделаны некоторые исключения, то только лицам, отличавшимся настойчивой защитой привилегий «благородных» (des gens comme il faut) против бунтарских притязаний тех несчастных, кого они называли чернью.
В целях укрепления духа новой конституции, ее авторы придумали ежегодно обновлять Законодательный корпус только в трети его членов и ввести в первый состав этого Корпуса две трети членов Конвента [10] по выбору избирательных органов.
Эта мера, диктуемая тревожной предусмотрительностью нескольких преступных законодателей и придуманная для того, чтобы сковать народ навсегда, особенно отвечала страстям членов Конвента.
Те, кто упивался властью, кто опасался преследований за пятнавшие их преступления по должности, кто опасался равенства, кого пугала даже сама идея демократических принципов, поспешили принять эту меру.
В Конвенте ложные друзья равенства, одинаково одиозные как истинным республиканцам, так и роялистам, выказали себя самыми страстными сторонниками этого способа обновления.
Из хитрости, которою они часто пользовались, они обвиняли в заговоре для восстановления монархии лиц, оказывавших им сопротивление и отождествленных ими в этом случае с теми людьми, которые всегда отвергали народные учреждения.
Опасение способствовать победе роялистов, заинтересованность корыстолюбцев и необходимость, пред которою стояли искренние друзья равенства, выбирать между двумя одинаково преступными партиями оказали большое влияние на общественное мнение. Результатом было такое количество избирательных голосов, которое, являясь крайне незначительным сравнительно с количеством населения и будучи очень сбивчиво подсчитано, доставило, однако, виновным членам Конвента предлог придать своим декретам об обновлении силу закона: общественный ропот заставил их просить для этих декретов санкции народа.
Обнародование их породило возбуждение, смятение и, наконец, вооруженное восстание парижских секций; это было 13 вандемьера IV года, в день, когда погибло бы большинство членов Конвента, если бы не мужественное самопожертвование тех, кого они недавно выдавали ярости врагов свободы [XXI]. Любовь к отечеству, угрожающему полным порабощением, и надежда, что назревающее столкновение приведет к благоприятным для дорогого им дела обстоятельствам, заставили горсточку республиканцев защищать своих недавних врагов, сражаясь с многочисленной армией секционеров.
Существовало мнение, что если члены Конвента, деморализовавшие революцию связью с множеством нечестных людей, объявляют себя врагами последних, то они будут вынуждены перейти на сторону демократов и уступить их желаниям.
Эта точка зрения была на руку наиболее твердым и наиболее просвещенным, к ним присоединились люди, движимые желанием отомстить и надеждой вновь захватить власть. Из этого союза, пополнившегося людьми подобными угрожаемым членам Конвента, образовался вооруженный корпус, названный «батальоном патриотов 1789 года».
Это наименование весьма знаменательно: оно показывает, насколько пало общественное мнение после 9 термидора II года, и доказывает крайнюю низость членов Конвента, которые, едва осмеливаясь назваться республиканцами, взывали к друзьям равенства о помощи, но боялись, чтобы их не заподозрили в примирении с последними [11].
После сражения 13 вандемьера, те, кого любовь к равенству привела к победе, потребовали от вождей этого дня сдержать данное ими обещание о восстановлении прав народа, но напрасно. По тону, с которым эти вожди рекомендовали крайнюю осмотрительность, было совершенно ясно, что отнюдь не следует рассчитывать на обязательства, заключенные в силу одного лишь страха.
Между тем как подавляющее большинство членов Конвента искало лазеек, чтобы увернуться от требований друзей равенства, те из них, которые находились еще в заключении, неустанно побуждали своих уже освобожденных друзей использовать победу к выгоде демократии. Они говорили, что кровь окажется пролитой совершенно напрасно, если упустить случай, пока хорошие люди в силе, и пока напуганные сенаторы обязаны им жизнью. Они желали категорически потребовать у Конвента кассации последних выборов, отмены новой конституции и непосредственного восстановления конституции 1793 года.
Уже приготовились было требовать кассации выборов, и уже подписанная петиция должна была быть вручена, когда депутатам-заговорщикам, в термидоре соединившимся с теми, кого национальное правосудие поразило 31 мая, удалось произвести раскол среди лиц, подписавших петицию: они опасались народных законов больше, чем королевской власти, петиция так и не была вручена.
Однако вследствие донесения Барраса [XXII], разоблачившего обширные проекты восставших, сообщники которых находились даже в Конвенте, была образована Комиссия общественного спасения, предполагаемые намерения которой на время обнадежили республиканцев, но вскоре и рассеяли их надежды.
Действительно, существовало мнение, что эта комиссия предложит кассацию последних выборов, но потому ли, что ей приписывали этим слишком много чести, потому ли, что она позволила запугать себя язвительной критикой Тибодо [XXIII], только она ограничилась предложением слабых паллиативов, которые ничему не помогли; и конституция III года почти тотчас стала проводиться членами Конвента, которые вновь воспылали ненавистью к равенству, именуя его террором и анархией.
В промежуток времени между столкновением 13 вандемьера и амнистией 4 брюмера все патриоты, еще находившиеся в заключении, были выпущены; они были обязаны свободой не торжеству народного дела, а трусливой политике своих врагов. Выйдя из тюрем, где они испытали всю глубину общественных бедствий, они стали угрожать изменникам, разбившим их цепи.
В это время предусмотрительные друзья равенства были глубоко расстроены испорченностью, которая, проскальзывая даже в мнения многих революционеров, угрожала демократическим учениям вечным забвением.
Вообще же патриоты, из которых большинство чаще действует по увлечению, чем по размышлению, гордились победой в вандемьере, они относили назначение Барраса и Карно в Исполнительную директорию к числу счастливейших событий революции и утешались в своих долгих несчастьях мыслью о тех должностях и милостях, которые они надеялись получить. Можно бы указать, что они забыли дело, за которое они боролись, и что, равнодушно глядя на совершившийся захват прав народа, они свели спасение отечества к облегчению своих собственных несчастий.
Не все, однако, разделяли эту точку зрения; если люди, о которых шла речь, думали или делали вид, что думают, что реформа конституции придет с течением времени, и что следует подготовлять её, ловко проходя на общественные должности, то другие, испуганные тем, что принципы тирании укрепятся благодаря укреплению нового правления и все возрастающему охлаждению республиканской энергии, находили, что истинные друзья равенства обязаны бить тревогу и привести народ к восстановлению его прав.
Из этого разделения мнений в среде республиканцев вышло следующее: те, кто часто поступался принципами справедливости ради своих частных выгод, стали называться патриотами 1789 года, а те, кто отличался настойчивостью в защите демократии, назвались равными.
 |
После своего освобождения патриоты и особенно равные, беспокоясь о судьбах свободы, стремились объединиться и быть в согласии, чтобы развитию новой тирании противопоставить могущественный оплот. Они часто собирались в кафе, в садах и на площадях; но так как там все обсуждалось с крайней и необходимой осторожностью, то общие рассуждения о положении вещей не позволяли предусматривать какой-либо быстрый и решительный результат в пользу общего дела.
В начале брюмера IV года Бабёф [12], Дартэ, Буонарроти, Лоржан де Дюамель и Фонтенель попытались создать центр руководства делом, чтобы вокруг него объединить расколовшихся патриотов, и чтобы, наконец, начать единообразную работу на общую пользу.
На созывавшихся с этой целью собраниях было сделано много предложений, одни хотели включить всех искренних патриотов в род масонской ассоциации, повинующейся наставлениям данных ей руководителей, другие предлагали тотчас сконструироваться в инсуррекционный комитет по акту, подписываемому каждым членом особо.
Так как на этих собраниях не было ни единства взглядов, ни доверия, необходимого для получения полезного результата, то сговориться не удалось, и вскоре собрания прекратились. Однако от двойного проекта — объединить патриотов и низвергнуть тиранию — не отказались: в этом для каждого истинного республиканца заключалась самая настоятельная потребность. Поэтому вскоре опять собрались с намерением устроить новое демократическое общество. На первое собрание, имевшее место у Буен, среди прочих явились Дартэ [13], Жермен, Буонарроти, Массар, Фонтенель, Филип, Лоржан де Дюамель, Бертран [14], Тисмио, Шентрар, Шапелль, Люссорилон, Лакомб, Реф, Куланж, Буен и Бодсон.
Это свидание было очень трогательным: в сердца проникла надежда, почти угасшая от стольких несчастий, здесь была дана клятва оставаться в единении и способствовать торжеству равенства.
Внимание данного собрания было обращено на вопрос, не лучше ли, чем устраивать только одно общество, образовать их много в различных районах Парижа.
После долгих прений решение было отложено до более многочисленного собрания, которое условились произвести в таком пункте, где полиция не так зорка; оно произошло в небольшом строении, расположенном в саду прежнего аббатства св. Женевьевы.
В то время как остатки демократической партии старались объединиться в единый орган, правительство, установленное конституцией III года, закладывало фундамент той политической системы, которой оно с тех пор постоянно придерживалось. Дух той партии Конвента, которая воспользовалась бедствиями 9 термидора и в прериале поразила демократов, а в вандемьере восторжествовала над ними, был целиком воспринят людьми, образовавшими Исполнительную директорию; этот дух может быть сведен к следующему: 1) сохранение и приобретение богатства и власти; 2) подавление с одной стороны роялистов и вельмож, с другой — друзей равенства.
С тех пор как пятеро представителей исполнительной власти заняли свой пост, они все старались свести бывших роялистов с демократами, чтобы побивать одних другими всякий раз, когда те или эти, одерживая верх, становились им опасны.
В то время, когда патриоты думали сорганизоваться в общество, правительство казалось благосклонным к их намерениям. Оно поддерживало через своих агентов открытие патриотических собраний, имея еще надобность запугивать восставших в вандемьере и желая пугалом террора заставить богачей содействовать тем мерам, которыми оно рассчитывало восстановить расстроенные финансы Республики; но оно намеревалось остановить развитие этих собраний, лишь только они попытаются вернуть демократические принципы.
Эта нечестность не ускользнула от зорких глаз патриотов, которые после 13 вандемьера, когда кровь за народ была пролита совершенно напрасно, утвердились в мнении, что ничто действительно полезное не может исходить от нового правительства.
Демократическая партия была немногочисленна, и масса слабых патриотов, едва пришедших в себя от ужаса, была готова опять поддаться страху при малейшем намеке на новое преследование.
Что касается народа, обманувшегося в своих надеждах и введенного в заблуждение клеветой и глухими происками роялистов и иностранцев, то он покинул демократов и прозябал в глубоком безразличии; а часть народа даже обвиняла революцию в бесчисленных бедствиях, тяготевших над ним.
Граждане, собравшиеся в саду св. Женевьевы, чувствовали опасность, угрожавшую, благодаря двуличию правительства, тем, кто осмелился бы из преждевременного рвения открыто напасть на власть, узурпировавшую права народа. Они говорили, что прежде всего следует проверить взгляды многих патриотов, вновь заслужить доверие народа к этим взглядам и вернуть ему былое сознание своих прав и своей силы; пока же надо прикрываться конституцией и даже покровительством правительства до момента, когда будет достаточно силы, чтобы напасть на правительство и уничтожить его. На этих принципах и постановили основать новое общество. Потребность сохранить и централизовать его дух заставила отклонить предложение о разделении общества на много секций: хотя они были более удобны для укрывательства от глаз полиции, однако, вносили то неудобство, что скорее могли быть подвержены уклонениям от плана организации и могли стать игрушкой интриганов и врагов Республики.
Было решено принимать в это одно единственное общество только безупречных людей и товарищески внушать им осторожность, усвоенную организаторами общества. Общество было тотчас же открыто в бывшей трапезной монастыря св. Женевьевы, пользование которою им бесплатно уступил патриот Кардино, квартировавший в этой части монастыря; когда же этот зал был отведен под собрания другого рода, то общество стало помещаться в обширном подземелье того же здания; здесь слабый свет факелов, глухой гул голосов и неудобные позы присутствующих, которые стояли или сидели, напоминали им о величии и об опасностях предприятия, а также о необходимости мужества и осторожности. Благодаря близости места собраний к Пантеону, новое общество получило имя этого храма. После открытия этого общества туда стало стекаться много патриотов, приглашенных в него или привлеченных заманчивостью этой организации; заодно с ними сюда вошли и такие люди, которые, будучи рабски преданы членам правительства, сводили все обязанности друзей свободы к поддержке властей в борьбе с роялистами.
Сначала общество занялось своей организацией, но крайняя осторожность и слабость большинства его членов были так велики, что в этом отношении приходилось преодолевать большие препятствия. Опасаясь представлять какое-либо сходство с прежними обществами, они усиливали преграды, выдуманные новой конституцией относительно права собраний. Иметь устав, председателя, секретарей, протоколы — все это в их глазах значило слишком заметно приближаться к якобинцам и нарываться на новые преследования.
Наконец, удалось сговориться, и общество получило устав, который, не вводя ни списков, ни протоколов и ставя условием приема только рекомендацию двух членов, сделал почти невозможным какой-либо порядок и открыл доступ толпе подозрительных личностей, часто извращавших дух общества и поднимавших в нем опасные споры.
Один оратор и один вице оратор занимали место председателя и секретаря, необходимые издержки покрывались добровольным сбором с членов общества.
Через небольшой промежуток времени общество Пантеона насчитывало уже больше двух тысяч членов. В условиях того времени и с имеющимся уставом было бы неосторожно и нелегко исключать из общества всех лиц, не заслуживавших быть среди равных. Пришлось принять большое количество патриотов, впавших в некоторые заблуждения, и в частности тех, кто намеревался восстановить демократию путем захвата общественных должностей.
Легко было заметить присутствие в Обществе всех этих разнообразных элементов. Равные бросались в глаза своим стремлением к просвещению народа и к возвышению догматов равенства, а патриотов 89-го года узнавали по их старанию влиять на правительство в пользу их собственного спокойствия и их собственных интересов. Чередующийся перевес этих двух партий заставлял общество совершать противоречивые поступки. Одни часто склоняли собрание хлопотать о предоставлении мест тем гражданам, которым они симпатизируют, другие развертывали перед ним прискорбную картину извращенности общественного мнения и заблуждений, которыми враги свободы старались сбить с толку народ; они указывали ему на торжество равенства, как на единственный предмет, достойный его вожделений, и требовали мер, способных пробудить почти угасшее мужество народа и зажечь тот священный энтузиазм, которому народ был обязан столькими победами, одержанными над всеми видами тирании.
Особой комиссии было поручено установить порядок работ и быстрый и легкий способ общения с народом. Воззвания, озаглавленные: «Истина, возвещаемая народу патриотами 1789 года», вскоре заставили общественное мнение обратить внимание на национальные дела, но они не нападали на правителей непосредственно, так как было бы неосторожно вызывать их месть. Действие этих прокламаций сказалось прежде всего в привлечении в новое общество большого числа трудящихся, которые, вновь обретая надежду, старались повсюду повторять многочисленные истины, услышанные ими в этом обществе.
Так как организаторы общества имели целью поскорее облегчить положение народа и тем заслужить его доверие, чтобы затем использовать его силу для восстановления его прав, то комиссия посоветовала домогаться проведения в жизнь двух законов, преданных контрреволюцией забвенью, это были: закон, обещающий защитникам отечества миллиард из национальных богатств, и закон, данный во II году, об уничтожении нищенства.
Между тем как «Пантеон» осторожно проводил те принципы, которые во многих пунктах Парижа намечались в том же духе и другими обществами, и между тем как писатели аристократии били тревогу против новых попыток так называемых террористов, Бабёф смело разоблачал в своем «Народном трибуне» преступления лиц, управлявших республикой, указывал на достоинства и законность конституции 1793 года и не поколебался объявить частную собственность источником всех зол, отягощающих общество. Такое мужество стоило ему новых преследований, он мог избежать их, только скрываясь в квартирах нескольких демократов [15].
В то же время на улице Клери у Амара формировался тайный Комитет, имеющий целью подготовить восстание против тирании, железный кулак которой все более и более давил французский народ. Амар, Дартэ, Буонарроти, Массар [16] и Жермен вошли в него первыми, а затем постепенно присоединились: Дебон, Женуа и Феликс Лепелетье, Клеманс и Маршан.
Глубоко страдая за народ, друзья свободы, как по вдохновению, соединили свои силы против ненавистного ига, тяготевшего над народом. Просвещенные демократы считали это для себя обязательным.
Лица, входившие в состав комитета, собиравшегося у Амара, единодушно рассматривали правительство, установленное конституцией III года, как незаконное по своему происхождению, как порабощающее по своему духу и как тираническое по своим намерениям, все были согласны, что спасение республики и свободы категорически требует уничтожения его.
Но было желательно, чтобы, прежде чем заняться способами выполнения этого уничтожения, каждый член не только убедился в правильности этого предприятия, но и чтобы у него также было полное представление о политическом порядке, годном заменить тот порядок, уничтожение которого было задумано.
Искренно желая счастья народа, все чувствовали, что было противно его интересам легкомысленно предавать его волнениям, которые могли бы привести к созданию новой тирании на развалинах тирании существующей, а также к созданию новых привилегий и к содействию новому честолюбию.
Комитет был прежде всего политической школой, где, разобравшись в причинах бедствий, раздиравших нацию, надлежало с точностью установить такие принципы общественного порядка, которые казались наиболее пригодными для освобождения ее от этих бедствий и для помехи их возврату.
Здесь говорили, что никогда еще народные массы не достигали того уровня просвещения и независимости, который необходим для пользования политическими правами, существенно важными для свободы, для сохранения ее и для счастья. Самые разумные народы древности имели рабов, постоянно оказывавшихся опасными для них; и никогда из человеческого общества, за исключением перуанцев, парагвайцев [XXIV] и еще нескольких мало известных народностей, не могло исчезнуть то множество людей, которых озлобляет и делает несчастными мысль о благах, которых они лишены и которыми обладают другие. Повсюду толпа пресмыкается под бичом деспота или привилегированных каст. И если затем перевести взгляд на французский народ, то и его находишь порабощенным (благодаря стараниям соперничающих эгоистов) корпорацией богачей и разбогатевших выскочек.
Что касается причины этого нестроения, то ее усматривали в неравенстве имущества и положения, а в конечном счете — в частной собственности, пользуясь которою люди наиболее ловкие или наиболее подлые беспрерывно грабили и грабят народ — народ, прикованный к продолжительным, тяжелым работам, плохо питающийся, плохо одетый, в плохих жилищах, лишенный благ, все возрастающих на его глазах для других, народ, физические и моральные силы которого подрываются нуждой, невежеством, завистью и отчаянием, народ, видящий в обществе только врага и теряющий все, вплоть до возможности иметь отечество.
История французской революции поддерживала этот образ мыслей Комитета.
Он видел, как в ней классы, и прежде богатый, и тот, который стал таковым, настойчиво стремятся к первенству; он видел, что в ней честолюбивые притязания всегда идут рука об руку с ненавистью к труду и с желанием роскоши, что привязанность народа к праву гражданства охладевает по море того, как разрушаются учреждения, благоприятные для равенства, и по мере того, как вся политика аристократов сводится к тому, чтобы ввергать в нищету, разделять, раздражать, запугивать и угнетать рабочий класс и представлять его требования наиболее действенными причинами упадка общества.
Из этих наблюдений следовало заключить, что неравенство всецело является постоянно действующей причиной рабства народов, и что пока оно существует, пользование своими правами будет почти призрачным для множества людей, человеческое достоинство которых унижается нашей цивилизацией.
Итак, уничтожение этого неравенства является задачей честного законодателя — вот принцип, вытекший из обсуждений комитета. Но как этого достигнуть? Это стадо предметом нового рассмотрения.
Амар, видевший, как Конвент удовлетворял неотложные потребности отечества путем установления максимальных цен и путем революционных обложений и реквизиций у богачей, расхваливал этот способ отнятия — это его собственные слова — избытка, загромождающего переполненные кладовые, для передачи его тем, у кого нет самого необходимого. Другие предлагали поочередно: раздел земель, законы против роскоши и прогрессивный налог.
Дебон, Дартэ, Феликс Лепелетье и Буонарроти возражали, что законодатели, обращавшиеся для уменьшения неравенства к разделу земель и законам против роскоши (причем распределение работ и имущества становилось пищей жадности и соперничества), противопоставляли бурному потоку весьма слабые преграды: их всегда подрывает и опрокидывает действие скупости и гордости, поддержка права собственности постоянно дает тысячи способов преодолеть все препятствия.
Реквизиции, говорили они, таксы, революционные обложения оказывались полезными для удовлетворения насущных нужд момента и для уничтожения недоброжелательства богачей, но они не могут стать частью обыденного общественного порядка, не подрывая самого существования его; так как кроме невозможности ввести их, не рискуя отнять необходимое, они повлекли бы за собой еще одно важное и непоправимое затруднение: они истощили бы источники производства, потому что, оставляя собственникам издержки производства, они в то же время лишали бы их поощрения в виде пользования результатами его, и наконец, они были бы недостаточны против тайного накопления денег, что является неизбежным результатом торговли, к которой естественно обратились бы все расчеты алчности.
По закону природы, устанавливающему зависимость производства от труда, труд, очевидно, является для каждого гражданина существенным условием общественного договора; и так как каждый, входя в общество, вносит в него одинаковый вклад (совокупность своих сил и своих средств), то из этого следует, что издержки, предметы производства и прибыль должны делиться поровну.
Кроме того, они обращали внимание на то, что фактической целью общества является предупреждение последствий естественного неравенства; и что если бы было верно, будто неравенство пользования ускорило успехи действительно полезных искусств, то все же теперь оно должно прекратиться, так как новые успехи ничего не смогли бы прибавить к реальному всеобщему благополучию; они также обращали внимание на то, что равенство, внушаемое основателям общества простым здравым смыслом, еще настоятельнее диктуется нам нашими возросшими знаниями и ежедневным опытом в том зле, которое неравенство влечет за собою.
Рассуждавшие таким образом видели в общности имущества и труда, т.е. в равном распределении прав и обязанностей, подлинный признак совершенства общественного строя и единственный общественный порядок, способный не допустить разрушительную работу честолюбия и скупости, навсегда уничтожить гнет и гарантировать всем гражданам наибольшее счастье, какое только возможно. Дебон напечатал сочинение, в котором он показывал несправедливость права собственности и указывал на длинный ряд бедствий, являющихся необходимым его следствием.
Амару все сразу стало ясно: при первом же провозглашении этой системы он сделался восторженным ее защитником, только о том и думая, чтобы распространить ее принципы, он в небольшой промежуток времени довел жар своего увлечения то того, что публично стал горячим апологетом этой системы.
В Комитете было общепризнано, что законы свободы и равенства никогда не получат полезного и продолжительного применения, если в области собственности не произойдет коренная реформа; все соглашались, что патриоты будут казаться в глазах народа только беспокойными и своекорыстными интриганами, поскольку они открыто не станут защитниками такой политической системы, которая способна гарантировать всем гражданам одинаковые права.
Развивая, эти идеи, часто говорили о философах и особенно о революционных деятелях, признавших справедливость их суждений. К их числу принадлежали Робеспьер и его товарищи по несчастию, которые в глазах тех, чье учение я излагал, очевидно, стремились к равному распределению издержек и потребления. Амар, бывший 9 термидора одним из самых ревностных преследователей Робеспьера, теперь сознался в своей неправоте, засвидетельствовал раскаяние и старался извинить свою ошибку, приписывая ее только своему якобы незнанию благонамеренных взглядов того, на кого он клеветал и над кем издевался.
Комитет не обманывался на счет того, насколько катастрофа 9 термидора и трагические события, последовавшие за нею, были пагубны для общего дела и для добрых нравов; он знал, что с тех пор множество граждан начали предаваться самому позорному хищничеству; ему было небезызвестно и то, что мелкие хозяйчики вновь привязались к своей собственности, от которой они недавно были готовы отказаться; теперь они были убеждены, что из законодательства исчезла всякая идея общественной пользы, так как впредь оно покинуто на самый безудержный эгоизм. Следовательно, Комитет чувствовал всю трудность непосредственной и моментальной замены законодательства в духе собственности — законодательством в духе равенства имущества и труда, т.е. несравненно более мягким и справедливым.
Ничто, однако, не отстояло от этого равенства дальше, чем общественный порядок, установленный кодексом III года, укрепление которого должно было отнять у народа пользование своими естественными правами. Комитету казалось, что, чтобы заставить народ высказаться о постоянном объекте своих желаний (достигнуть этого ему всегда мешал недостаток просвещения и хорошего руководства), надо начать с возвращения ему права собраний, прений, совещаний и чувства своей силы. Такое движение ко все большему благу Комитет видел в конституции 1793 года: и вследствие этого, а также по мотивам, справедливо заставляющим уважать в этой конституции свободное и торжественное выражение воли французов, Комитет решился сделать ее первым связующим звеном между патриотами и народом.
Никто не обманывался насчет недостатков этой конституции, их находили главным образом в тех статьях декларации прав, которые, определяя право собственности, санкционируют его во всей его ужасающей полноте. Тем не менее приходилось дознаться, что ни одно подобного рода произведение ближе к совершенству не стояло, и Комитет приветствовал те положения конституции, которые открывали широкое поле для всевозможных улучшений. После долгого и серьезного рассмотрения Комитет свел обязанности друзей народа к следующим двум основным пунктам:
1) Восстановить принятую народом конституцию 1793 года; этот закон открыто санкционирует пользование народа своею властью; он является средством быстро достигнуть равенства; он — связующее звено в союзе, необходимом для свержения существующей власти, проникнутой деспотизмом.
2) Исподволь подготовить принятие истинного равенства, указывая на него народу, как на единственный путь к уничтожению навсегда всех источников общественных бедствий.
Так как замышляемая революция должна была начаться с уничтожения конституции III года, то было вполне естественно, что Комитет занялся рассмотрением способов выполнения такового, а также рассмотрением той общественной формы, которою предстояло непосредственно заменить правление, подлежащее свержению, было видно, что в силу обстоятельств и ради самого успеха предприятия потребуется некоторый промежуток между падением аристократической власти и окончательным установлением народной конституции.
Предполагалось напасть на узурпаторское правительство не иначе, как при помощи силы народа; привести же эту силу в действие рассчитывали путем влияния истины, любви к свободе и ненависти к гнету.
Предполагая вернуться в дальнейшем к форме временной власти, которою заговорщики предполагали внезапно заменить конституционный порядок III года, я ограничусь здесь кратким изложением взглядов, внесших в Комитет раскол.
Одни предлагали созвать остатки Конвента, которые ими рассматривались, как существующие еще по праву, другие желали вверить временное управление Республикой органу, назначенному восставшим парижским народом [17] и наконец, иные думали вручить на определенное время верховную власть и заботу об организации Республики только одному лицу с именем диктатора и уравнителя.
Ниже будут приведены основания, которыми каждый поддерживал свое мнение, в данный же момент достаточно сказать, что временная власть, назначенная восставшими, была предпочтена созыву Конвента, предложенному Амаром, и диктатуре, выдвинутой Дебоном.
Между тем как Комитет зрело обдумывал свои планы, общество «Пантеон» и сочинения Бабёфа становились для него рычагами того движения, которое он задумал. Желая направлять их деятельность, он внушал ораторам общества, из которых он рассчитывал образовать первое ядро восстания, осторожно останавливать преждевременные порывы к этому восстанию, не угашая, однако, энергии. Кроме того, Комитет подбадривал Бабёфа в его задании: удвоить жар противодействия угнетателям и призывать народ к беспощадному, полному и цельному завоеванию своих прав.
Чтобы подготовить восстание, заложить фундамент того переходного законодательства, которое должно было появиться вслед за восстанием, и выработать окончательные положения равенства, Комитет должен был распасться на секции, но тут недоверие затянуло ход работ Комитета, и он не замедлил разрушиться совсем.
Амар сделался причиной всеобщего беспокойства: он был неприятен многим из друзей равенства, так же как и сторонникам аристократии: последние упрекали его в участии в преследованиях, направленных против жирондистов, и в суровости выказанной им против врагов Республики, а первые обвиняли его в том, что он был одним из самых яростных преследователей жертв 9 термидора, по отношению к которым, как утверждали, он проявил ужасающую жестокость, его считали тщеславным, неосмотрительным, интриганом и мстительным.
Но он сумел войти в доверие к Дартэ и Массару и благодаря им начал знаться и с другими членами Комитета. Их удерживало возле Амара горячее желание послужить делу народа и мнение, что проявляемая им пылкость искренна; но их оттолкнули от него горькие воспоминания, само рвение, с которым он высказывался за систему равных, и даже несправедливые опасения измены.
Эрон, бывший прежде одним из главных агентов Комитета общественной безопасности Конвента, чувствовал к Амару самую безжалостную ненависть. Больной, умирающий, как только он узнаёт, что республиканцы относятся к Амару с некоторым доверием, он спешит призвать к себе Феликса Лепеллетье и именем отечества заклинает его отдалить от Амара республиканцев и поручает обрисовать им его в самых ужасных красках. Желание Эрона было исполнено, Комитет, перенесший из осторожности свои собрания на улицу Нового Равенства, сразу же после этого распался [18].
В то время не было такого истинного республиканца, который не являлся бы заговорщиком или не был бы готов стать им; все испытывали сильнейшую потребность объединиться и сорганизоваться, чтобы достигнуть полного уничтожения тирании. Поэтому, когда Комитет, о котором шла речь, распался, во многих пунктах Парижа образовались другие организации того же рода; в них обращали на себя внимание Дартэ, Буонарроти, Массар, Буен [19], Дидье, Антонелль, Жермен, Бодмин, Шентрар, Дерей, Тисмио, Дюфур и Шапелль.
Эти новые общества просуществовали недолго, потому что надзор полиции и тайное воздействие, стремившееся связать усилия демократов с другим центром, вскоре заставили эти собрания прекратить свое существование: как раз в них был развит проект разбить всех патриотов на маленькие, незаметные клубы; депутаты должны были формировать из них районные общества, подчиняющиеся одному центральному комитету, в состав которого должна была входить небольшая группа испытанных демократов, обязанных давать всем одно общее направление.
В «Пантеоне» с трудом удавалось сдерживать порывы увеличившегося общества против конституционной тирании III года. Горячие споры, вызываемые чтением журналов всех партий, и еще более жаркие споры по поводу предложения добиваться проведения закона, передающего защитникам отечества миллиард из национальных имуществ, и закона, наделяющего бедняков почетным вспомоществованием, пробудили в демократах былую энергию, эти же споры ознакомили правительство с наиболее преданными и наиболее красноречивыми сторонниками демократических принципов.
Хотя у пантеоновцев само собой разумелось, что разумная скрытность является предосторожностью, необходимой для облегчения выполнения своих намерений, тем не менее, нельзя было помешать передаче смелых речей из уст в уста; а иногда они возгорались даже на трибуне общества — то от избытка увлечения, то как следствие интриги, стремящейся уничтожить эту полезную организацию. Впрочем, и нельзя было поднять в народе энергию, не говоря ему об его интересах и об его правах; необходимость предоставлять прениям некоторый простор, соединенная с осмотрительностью, которой следовало вооружиться, чтобы не встревожить тиранию слишком рано, ставили ораторов «Пантеона» в затруднительное положение то с точки зрения общественных интересов, то с точки зрения доверия, которое важно было сохранить.
Между тем как общество заставляло друзей и врагов равенства быть настороже, между тем как его прения повторялись и комментировались патриотическими журналами и искажались, проходили через цензуру и подвергались клевете контрреволюционных писателей, и между тем как старые демократы смотрели на «Пантеон» с надеждой, парижский народ постепенно выходил из той безучастности, к которой его привели его долгие несчастья, и во всех департаментах образовалось множество обществ, тайно переписывающихся с обществом в столице, посредниками в переписке служили члены этих обществ, принятые в «Пантеон».
Работа общества «Пантеон» разбивалась следующим образом:
— чтение журналов;
— сообщение корреспонденции членов;
— сборы в пользу несчастных патриотов;
— меры к возвращению свободы тем, кто, благодаря аристократии, был в кандалах.
Затем шли прения о законодательстве и поведении правительства и предложения и рассмотрение обращений к правительству. В горячих спорах часто выявлялись великодушные чувства людей, стремившихся возвратить народу всю полноту его прав, а также и своекорыстные и узкие взгляды некоторых лиц, рассчитывавших воспользоваться обществом как пьедесталом самого гнусного господства.
Среди выдающихся событий, имевших место внутри этого общества, следующие два заслуживают особенного внимания.
Перед 9 термидора II года два закона подготовили большую реформу в распределении земельных богатств.
По первому защитникам отечества был обещан миллиард [20] из национального имущества, по второму имения врагов революции отдавались несчастным патриотам [21].
Почти все пантеоновцы рассматривали исполнение первого закона как долг благодарности; но люди, наиболее преданные делу равенства, видели в нем, кроме того, первый шаг к проведению 2 закона, а также к ознакомлению нации с теми принципами, которые дают суверену право располагать имуществом; впрочем, они чувствовали, что только такого рода спорами можно было пробудить в народе ту энергию, благодаря которой он совершил столько подвигов и без которой все старания установить разумный общественный порядок оказались бы тщетными.
Поэтому предложение добиваться действительной раздачи миллиарда было встречено с восторгом, и адрес с просьбою об этом сначала был принят без всяких изменений; однако отправка его была на следующем собрании отложена на неопределенный срок; это произошло под влиянием нескольких правительственных агентов, которым удалось нагнать на большинство членов общества такой страх, что он едва прошел у них.
Смелость, с которою Бабёф нападал в своем «Народном трибуне» на действующую конституцию и на членов правительства, была причиной того сурового молчания, которое «Пантеон» так долго хранил по отношению к Бабёфу; лица, оправдывавшие мнения трибуна [XXV], боялись, что соучастие лишит их всего; робкие опасались быть скомпрометированными; враги учения Бабёфа боялись открыть ему доступ к влиятельности.
В начале вантоза 4 года преследование, тяготевшее над Бабёфом, распространилось и на его жену; ее арестовали, обвинив в распространении сочинений ее мужа, но на самом деле, желая только выведать у нее, где находится его конспиративная квартира. При рассказе об этой излишней жестокости «Пантеон» разразился тысячью негодующих возгласов; друзья равенства стали говорить в защиту мужественного Бабёфа и добились того, что общество начало хлопотать об освобождении его жёны, а ему было послано в тюрьму денежное вспомоществование.
Новый подъем, с которым народ принимал истины, недавно столь успешно защищавшиеся им, а также дух равенства, снова распространившийся по всей Франции, и этот новый порыв к демократии, а больше всего известность характера многих членов «Пантеона» натравили на это общество всех антинародных писателей, к которым присоединились многочисленные ораторы из Совета пятисот [XXVI]. Правительство, вначале приветствовавшее общество из желания запугать им роялистов, уже начало опасаться его влияния.
Тайные агенты тирании, опираясь на робость слабых людей, парализовали энергию общества, распространяя в нем ужас, они то указывали ему на шайку аристократов, готовых напасть на него с оружием в руках, то обращали его внимание на гнев правительства, раздраженного смелостью его дебатов.
Выход из положения заключался, по их словам, в подчинении и в изъявлении преданности установленной системе правления.
Увлеченное подобными советами общество позволило внести предложение о таком обращении к Исполнительной директории, в котором после обильной, низкой лести его заставляли поклясться в верности конституции III года.
Это обращение подверглось сильнейшим нападкам, принятое большинством, оно явилось основанием для явного раскола между подписавшими его и теми, кто предпочел трусливым уверениям перспективу новых преследований.
Эта громкая развязка вскрыла все чувства, и узурпаторская власть уже достоверно узнала о тех гражданах, принципы и твердость которых были для нее наиболее опасными.
В дальнейшем течении своих работ общество сосредоточило все свое внимание на кредите ассигнаций, свободе печати и образовании суда присяжных.
Ассигнации теряли свою ценность с такой быстротой, что заработная плата не могла идти в уровень с ценой съестных припасов, растущей не по дням, а по часам; всем, живущим на свой труд, больше не на что было существовать, и они продавали утварь и лохмотья, чахли в нищете и умирали от истощения. Петиция пантеоновцев обращала внимание Законодательного корпуса на это важное обстоятельство.
Другая петиция опровергала те софизмы, с помощью которых голоса недоброжелателей вызвали через Законодательный корпус стеснение свободы печати, желая, по их выражению, подавить дерзость демократов, причем новая аристократия злостно и умышленно смешивала их с роялистами.
По новому законодательству, лица, не имевшие избирательного ценза, лишались права быть вносимыми в списки присяжных заседателей, и таким образом неимущие классы утратили в области суда гарантии, вытекавшие из этого права: отсюда суровость суда по отношению к ним и снисходительность к привилегированным. Общество довело до сведения народа и Законодательного корпуса об этом столь же опасном, как и вопиющем злоупотреблении, но Законодательный корпус продолжал хранить молчание.
Люди, с самого начала предполагавшие сделать из «Пантеона» точку опоры для восстановления демократии, никогда не забывали возбуждать энергию народа и в то же время щадить конституционную власть вплоть до момента, когда единогласное одобрение общественного мнения позволит говорить без обиняков и сделает усилия угнетателей бесплодными. Следовательно, они хотели ограничиться обсуждением прав людей и народов, избегая непосредственно применять их к существующей в данный момент тирании: как раз по их советам общество постоянно порицало опрометчивую и, быть может, притворную горячность лиц, бросавших внутри общества важные обвинения по адресу членов Исполнительной директории и требовавших восстания.
Те же моменты осторожности заставили отказать ссыльным монтаньярам в приеме их в общество, так как правительство, без всякого на то основания, видело в них опасных заговорщиков, принят был только Друэ [22].
В плювиозе IV года наплыв в «Пантеон» простонародья, а также правильное настроение маленьких демократических обществ, возникших во многих кварталах Парижа, и живейший интерес народа к восстановлению своих прав дали знать основателям «Пантеона», что их пожелания начинают сбываться и что пора открыть своим стремлениям более широкое поле действий.
До сих пор они ограничивались поддержкой воодушевления среди наиболее активных элементов революции и объединением их, но теперь они почувствовали, что настало время оказать такое же влияние и на парижский народ.
Стараясь примирить необходимость гласности заседаний с полицейскими правилами и особенно с предосторожностями, диктуемыми осмотрительностью, они пришли к убеждению, что так как их политическая доктрина является самым строгим следствием законов природы, то легко и благоразумно представить ее как закон Божества, т.е. как предмет естественной религии.
Итак, было решено начать появляться в храмах, именуясь деистами и проповедуя в качестве единственного догмата естественную мораль.
А так как было полезно приучить народ заменять обряды католической церкви другими обрядами — чего само правительство старалось достигнуть введением праздников декад — то было постановлено праздновать эти праздники публично и испросить у Директории для этого дела обширный храм.
Директория, проникая в конечную цель этой просьбы и опасаясь следствий ее, отказалась ее исполнить под тем предлогом, что возьмет предложенные празднования на себя.
Тогда стало необходимо заговорить с обществом более ясным языком и открыть ему часть тех тайных воззрений, ознакомить с которыми во всей их полноте, было бы неосторожно. Было желательно убедить общество прикрыться религиозными формами, чтобы начать пользоваться гласностью и храмами, гарантируемыми законом сектантам всех культов.
Завязавшийся по этому вопросу спор был очень оживленным и продолжался в течение многих заседаний, авторам проекта пришлось разбивать доводы ораторов, старавшихся помешать выполнению его, то советуя осторожно обратиться с ним к правительству, то заставляя рассматривать всякую религиозную форму как источник нового суеверия.
Наконец, все препятствия были устранены, и общество постановило, что оно «использует праздники декад для того, чтобы публично почтить Божество путем проповеди естественного закона». Было поручено комиссии нанять храм и изготовить катехизис и устав нового культа [23].
Тогда Директория начала опасаться общества «Пантеон», и его прения вызвали тревогу в многочисленных «эгоистах» столицы.
С тех пор полиция усердно занялась выведыванием речей и образа действия ораторов-пантеоновцев, которые своим общественным поведением не давали никакого уважительного повода к преследованиям. Однако их гибель уже была предрешена, и только не доставало предлога к уничтожению общества, которое получило кличку разбойничьего притона.
К началу вантоза IV года пантеоновцы, вышедшие из своего прежнего оцепенения, все стояли за успех демократии. Вместо того чтобы возбуждать в них усердие, приходилось даже умерять проявления его, так как они могли оказаться гибельными. Проскользнувшие в общество эмиссары правительства, презираемые и опозоренные и не имеющие больше возможности обманывать, стали гнусными доносчиками.
Искомый правительством предлог исходил от Дартэ, желая проникнуть в настроение общества, он прочел там тетрадь «Народного трибуна», в котором не были пощажены личности членов Директории и нескольких депутатов, а также и их конституция и их тиранические законы. Это чтение было покрыто аплодисментами, а вскоре после того [24] Директория дала приказ о закрытии общества, лично приведенный в исполнение генералом Бонапартом [25].
Дух правительства французской республики, как и всех аристократических правительств, был одинаково враждебен и единоличной власти и власти всего народа. Однако подъём, с которым большинство нации приняло учение о суверенитете народа, и то, что оно проповедовалось даже некоторыми из основателей новой аристократии, не позволяли последней ставить это учение в вину демократам как таковым; поэтому новая аристократия старалась навлечь на них народную ненависть, изображая их замаскированными роялистами, стремящимися привести нацию к королевской власти при помощи анархии, с которою аристократия якобы смешивала демократические принципы [26].
Такую политическую нечестность можно найти во всех поступках новой власти по отношению к народной партии: ее доказывает постановление Директории, закрывавшее заодно с «Пантеоном» многочисленные общества роялистов, почти тотчас же открытые вновь. К этому доказательству следует прибавить другие еще более убедительные, о которых я еще буду иметь случай говорить, давая отчет о знаменитом законе 27 жерминаля [XXVII].
Вышеприведенный насильственный акт встревожил все сердца, как мало ни были бы они привязаны к свободе, и явился сигналом к новым преследованиям. Много патриотов было уволено с занимаемых ими общественных должностей, производились дознания об их революционной деятельности, и писатели, защищавшие интересы народа, подверглись энергичному преследованию.
Начиная самым страстным другом равенства и кончая самым умеренным патриотом, все были возмущены покушением, сделанным Директорией, и доносом депутата Мэль на народные общества; такое же возмущение вызывалось и начавшимся сильным ограничением права собраний, завещанного народу конституцией III года.
Тирания, принимавшая через это все более угрожающий и все более одиозный характер, имела своим следствием объединение против нее патриотов всех оттенков и заставила их единодушно желать быстрого ее уничтожения.
Рассеянные путем насилия пантеоновцы сначала собирались в кафе, содержавшихся республиканцами, а потом, с наступлением лета, просто под открытым небом. Несколько писателей энергично восстали против акта Директории, а другие, по примеру Бабёфа, воспользовались этим случаем, чтобы больше чем когда-либо призывать народ к восстановлению своих прав.
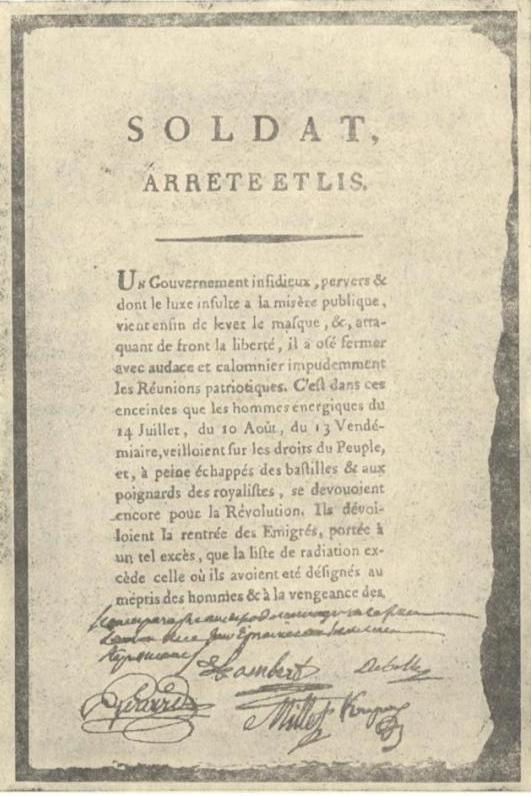 |
Из сочинений, ходивших тогда по Парижу, особенно выделялись воззвание, озаглавленное: «Солдат, остановись и прочти», принадлежавшее Феликсу Лепелетье, и «Речь к французам о собраниях граждан», анонимным автором которой был Антонелль.
Бабёф не переставал проповедовать в своем «Народном трибуне» учение о чистом равенстве и упрекал в узурпации основателей нового правления, и тех, кто пользовался при нем властью.
Его суровый язык доставил ему могущественных врагов и вызвал нерасположение к нему людей, державшихся за высших чиновников вследствие полученных или ожидавшихся от них милостей, а также людей, которые считали хорошей политикой притворяться сочувствующими власти, чтобы затем с большей легкостью уничтожить ее, и которые обвиняли Бабёфа в неблагоразумном разглашении того, что они называли тайной демократов.
Их недовольство достигло таких размеров, что некоторые из них решили погубить этого мужественного гражданина, они попытались обрушить на него негодование народной партии, преувеличивая его прежние связи с подстрекателями преступления в термидоре, и злобно напоминали о его сочинениях против некоторых агентов революционного правительства.
Между тем, верные друзья равенства сознавали, что политические принципы, касающиеся интересов близких всем, являются единственным средством поддержать и поднять в народе энергию, которую аристократы старались притупить; они предвидели, какие услуги могли оказать общественному делу таланты и смелость Бабёфа, и потому открыто взяли его под свою защиту и способствовали таким образом развитию его планов.
С желанием просветить своих сограждан Бабёф уже давно соединял желание активно помочь восстановлению ими своих прав. С этой целью он привлек к себе горячих сторонников демократии и старался знать и руководить деятельностью демократов у Амара, на улице Папильон, в предместье Дени и вообще повсюду, где они собирались.
Квартиры Феликса Лепелетье, Рейса и Клере служили одна за другою убежищем Бабёфа; здесь он получал поддержку и помощь от Антонелля, Буонарроти, Симона Дюплея, Дартэ, Дидье, Жермена, Сильвена Марешаля [XXVIII] и Бодсона; здесь он выполнял взятые на себя обязанности и подготовлял свое предприятие.
Инсуррекционная организация, с которой нам предстоит ознакомиться, возникла только к началу жерминаля IV года [27]. До этого времени Бабёф, Феликс Лепелетье и Сильвен Марешаль составляли тайный союз, имевший вначале только одну цель: определять темы и характер своих политических сочинений.
По-видимому, не подлежит сомнению, что Бабёф, стремившийся централизовать движение, способствовал, пользуясь влиянием своих друзей, уничтожению комитетов, деятельность которых нам уже известна. Большая часть воззрений этих комитетов вошла в акты нового инсуррекционного органа.
В первые дни жерминаля Бабёф, Антонелль, Сильвен Марешаль и Феликс Лепелетье сорганизовались в «Тайную директорию общественного спасения» и приняли благородное решение связать воедино разрозненные нити демократии для единообразного руководства ими в целях восстановления народного суверенитета.
Первой заботой этой Директории являлась мысль объединить и взять под свое начало всех друзей свободы, подсчитать свои силы и настроить их в пользу всеобщего просвещения и освобождения. При этом все внимание было направлено на то, чтобы не скомпрометировать изменою или неосторожностью как само дело, так и причастных к нему лиц.
Тайная директория содействовала этому своим уставом, создававшим в каждом из двенадцати районов Парижа по одному главному революционному агенту, а также агентов связи, имевших целью поддерживать сообщение между Тайной директорией и ее революционными агентами.
 |
К этому уставу была добавлена инструкция, в которой Тайная директория объясняла своим агентам мотивы и правоту данного начинания и намечала тот образ действий, которому они должны были следовать для достижения успеха.
Никогда не было лучшего агента связи, чем Дидье: его усердие, ловкость и скромность всегда оказывались выше всяких похвал. Хотя согласно установленного регламента этот агент не должен был знать ни членов Тайной директории, ни их действий, однако чистота патриотизма Дидье, его благоразумие и его испытанная верность завоевали ему полное их доверие: оно было безгранично, и Дидье воспользовался этим, чтобы склонить членов Тайной директории к принятию Дартэ и Буонарроти, которые в свою очередь добились приема Дебона.
Таким образом, к 10 жерминаля IV года в Париже существовала Тайная директория, основанная для восстановления народа в его правах. Она состояла из Антонелля, Бабёфа, Дебона, Буонарроти, Дартэ, Феликса Лепелетье и Сильвена Марешаля и собиралась в помещении, занимаемом Клере, где тогда скрывался Бабёф.
Между ними не было никаких разногласий относительно политической доктрины, обсуждавшейся у Амара, их связывало полное единодушие, все рассматривали равенство в труде и потреблении как единственную цель достойную истинного гражданина и только в этом видели законный мотив восстания.
Сильвен Марешаль [28] составил воззвание к народу под названием «Манифест равных» и предложил его на рассмотрение своих товарищей.
Вот подлинный текст этого произведения [29].
Фактическое равенство является конечной целью социального строительства
Кондорсэ
«Историческая картина успехов человеческого духа»
Французский народ!
В течение пятнадцати столетий ты жил в рабстве и, следовательно, был несчастен. И вот уже шесть лет, как ты едва переводишь дух в ожидании независимости, счастья и равенства.
Равенство! Первое требование природы, первая потребность человека и основное звено всякого законного товарищества. Французский народ! Тебе повезло не больше чем другим народам, прозябающим на этом злосчастном земном шаре. Всегда и везде бедный человеческий род, отданный во власть более или менее ловких людоедов, служил игрушкой всяческому честолюбию, пищей всяческой тирании. Всегда и везде людей убаюкивали красивыми словами, но никогда и нигде не получали они вместе со словом дела. С незапамятных времен нам лицемерно твердят: «Люди — равны», и с незапамятных времен над человеческим родом нагло тяготеет самое унизительное и самое чудовищное неравенство. С тех пор как существует человеческое общество, прекраснейшее достояние человека признается за ним бесспорно, но еще ни разу оно не смогло осуществиться, на деле равенство было не чем иным, как красивой и бесплодной юридической фикцией. А теперь, когда мы его требуем более решительно, нам отвечают: «Замолчите, несчастные! Фактическое равенство — только химера; довольствуйтесь условным равенством: вы все равны перед законом. Чернь, чего тебе еще?» Чего нам еще? Законодатели, правители, богачи, собственники, теперь послушайте вы в свою очередь.
Мы все равны, не так ли? Этот принцип остается неоспоримым, потому что, если не быть безумцем, то нельзя серьезно утверждать, что на дворе ночь, когда стоит день.
Так вот! Отныне мы намерены жить и умирать равными, какими мы родились, мы желаем или действительного равенства, или смерти, вот чего нам надо. И мы добьемся его, этого действительного равенства, какой бы то ни было ценой. Горе тем, кто заградит нам путь к нему. Горе тому, кто станет противиться желанию, провозглашенному таким образом.
Французская революция — только предтеча другой более великой и более величественной революции, которая будет уже последней.
Народ раздавил объединившихся против него королей и священников, то же будет и новым тиранам и новым политическим лицемерам, усевшимся на месте старых. Чего еще надо нам кроме юридического равенства?
Нам нужно это равенство, не только записанное в декларации прав человека и гражданина, мы хотим, чтобы оно было среди нас, под кровлей наших жилищ.
Для него мы согласны на все. Мы готовы снести все до основания, лишь бы оно осталось у нас. Если надо, пусть погибнут все искусства, лишь бы у нас осталось действительное равенство!
Законодатели и правители, так же бездарные, как и бессовестные, и богатые и бессердечные собственники, напрасно пытаетесь вы парализовать наше священное начинание, говоря: «Они просто снова выдвигают этот аграрный закон, который уже не раз требовался и до них».
Клеветники, замолчите, теперь и вы выслушайте в смущенном молчании наши требования, диктуемые природой и основанные на справедливости.
Аграрный закон или земельный передел был мимолетным желанием некоторых беспринципных солдат, некоторых народностей, побуждаемых скорее инстинктом, чем разумом. Мы стремимся к более высокой и более справедливой цели, а именно, к коллективной собственности. Долой частную собственность на землю, земля — ничья.
Мы требуем и желаем общего пользования земными плодами: эти плоды принадлежат всем.
Заявляем! Мы не можем дольше терпеть, чтобы подавляющее большинство людей трудилось в поте лица своего ради выгод и удовольствия незначительного меньшинства.
Достаточно долго и даже слишком долго меньше чем миллион людей распоряжается тем, что принадлежит больше чем двадцати миллионам им подобных, им равных.
Пусть, наконец, прекратится это безобразие, в существование которого наши внуки не захотят верить! Пусть исчезнет, наконец, возмутительное деление на богатых и бедных, на знатных и простых, на господ и слуг, на правящих и управляемых.
Пусть не будет иного различия между людьми, как только возраст и пол. Так как у всех людей одинаковые потребности и одинаковые способности, пусть же воспитание и пропитание будут у них тоже одинаковыми. Они довольствуются одним солнцем и одним воздухом на всех, почему же каждый из них не мог бы удовлетвориться одинаковым количеством пищи одного и того же качества?
Но враги самого естественного порядка вещей, какой только можно представить себе, уже ораторствуют против нас.
«Разрушители и бунтовщики, — говорят они нам, — вы желаете только убийств и грабежа».
Французский народ!
Мы не станем терять времени на возражения им, но тебе мы скажем: организуемое нами священное дело имеет одну только цель — положить предел гражданской смуте и нищете народа.
Никогда не замышлялся и не приводился в исполнение более широкий план. Время от времени только отдельные гении и мудрецы говорили о нем тихим и трепетным голосом. Ни один из них не имел мужества высказать всю правду до конца. Пора перейти к решительным мерам.
Зло достигло своего апогея, оно распространилось по лицу всей земли. Хаос под именем политики царит на ней слишком много веков. Пусть же все придет в порядок и норму. Пусть по зову равенства сорганизуются все элементы, стремящиеся к справедливости и счастью. Настал момент основать Республику равных, эту великую обитель, открытую для всех людей. Наступили дни всеобщего обновления. Стонущие семьи, идите за общий стол, накрытый природою для всех ее детей.
Французский народ!
Итак, тебе была уготована величайшая слава. Да, ты первый должен явить миру это трогательное зрелище, традиционные привычки, старые предрассудки снова захотят мешать основанию Республики равных. Возможно, что вначале не всем понравится тот строй действительного равенства, который один мог бы удовлетворить все потребности, не нарушая при этом ничьих интересов и не требуя никаких жертв. Эгоисты и честолюбцы придут в ярость. Те, кто не по праву являются собственниками, поднимут вопль о нарушении справедливости. Некоторые лица, разжиревшие на чужой счет, будут горько сожалеть о своих монополиях и о своих личных удобствах и наслаждениях. Сторонники абсолютной власти, гнусные сообщники произвола с величайшим неудовольствием допустят низведение своих блестящих владык до уровня действительного равенства. Благодаря своей недальновидности они с трудом смогут провидеть близкое наступление всеобщего счастья; но что могут сделать несколько тысяч недовольных против массы счастливых людей, пораженных тем, что они так долго искали счастья, которое было у них под рукой.
На другой день после этой истинной революции они с изумлением скажут: «Так вот оно что! всеобщее счастье зависело от такого пустяка? Нам стоило только захотеть его. Ах! почему мы не захотели его раньше? Надо ли было столько раз говорить нам об этом?» Да, без сомнения, если есть хоть один человек в мире более богатый, более могущественный, чем ему подобные, ему равные, то равновесие уже нарушено, и на земле — преступление и несчастье.
Французский народ!
По какому же признаку должен ты отныне узнавать превосходство какой-либо конституции? Только та конституция, которая всецело основана на фактическом равенстве, может подойти тебе и удовлетворить все твои пожелания.
Аристократические хартии 1791 и 1795 годов только прочнее заклепывали твои цепи, вместо того чтобы их разбивать.
Конституция 1793 года была значительным шагом вперед к действительному равенству, никогда еще человечество не подходило к нему так близко, но и эта конституция не достигала еще конечной цели и не давала того всеобщего счастья, великий принцип которого она торжественно узаконивала.
Французский народ!
Открой глаза и сердце на полноту блаженства, признай и провозгласи вместе с нами «Республику равных».
Таков подлинный текст заготовленного Марешалем манифеста, но Тайная директория, под влиянием Бабёфа, не захотела огласить это произведение, потому что не одобрила выражений: «Если надо, пусть погибнут все искусства, лишь бы у нас осталось действительное равенство» и «Пусть исчезнет, наконец, возмутительное деление на правящих и управляемых»; вместо манифеста, Тайная директория напечатала и распространила в большом количестве экземпляров другую прокламацию, излагающую сущность ее теории; эта прокламация была озаглавлена: «Содержание доктрины Бабёфа, осужденного Исполнительной директорией за проповедь правды».
Равенство без всяких ограничений, величайшее, какое только может быть всеобщее счастье и уверенность, что оно никогда не будет отнято — вот блага, которыми Тайная директория общественного спасения желала обеспечить народ; она желала вновь взяться за дело, разбитое 9 термидора, и, по примеру жертв этого рокового дня, присоединить к революции сильных и великих революцию несравненно более справедливую, конечным результатом которой должно было быть беспристрастное распределение имущества и просвещения.
И хотя Тайная директория знала, что власть, заключенная в рамки благоразумия, явится для нее гарантией успеха, она была слишком убеждена, что и наиболее благонамеренная власть не может похвастаться полным и прочным успехом, если нет любви и содействия народа, и что, быть может, она должна возлагать на него свои главные надежды.
Прежде чем французская революция показала миру невиданную картину того, как многомиллионное население требует и скрепляет своей кровью истины, замечавшиеся прежде только несколькими мудрецами, намерение поднять народ единственно силой этих истин могло показаться фантастическим; не так было в то время, когда образовалась Тайная директория: тогда дело было не столько в том, чтобы создать новые взгляды, как чтобы собрать воедино мнения, уже существовавшие незадолго до того, но разрозненные и убитые клеветой и преследованием.
Преследование значительно сократило ряды убежденных республиканцев, остатки их, насильственно рассеянные или разделенные клеветой, больше не внушали того доверия, которое когда-то помогало им вести народ к завоеванию своих прав.
При таком положении дел Тайная директория, желавшая действовать только для народа и через народ, должна была почувствовать, что прежде всего ей следует просветить заблуждающихся, подбодрить слабых, довести массу до понимания истинных причин ее бедствий, начертать для мужественных вождей демократии один общий план действий и дать всем один единственный руководящий центр.
Далекая от того, чтобы работать исподтишка как преступные заговорщики, Тайная директория надеялась на успех своего предприятия только благодаря развитию сознательности общества и благодаря действию истины.
Тайная директория намеревалась закончить то, к чему общество «Пантеон» могло только подойти, она имела по сравнению с ним двойное преимущество: она была менее заметной и могла лучше обдумывать и осуществлять свои планы; насильственное уничтожение этого клуба немало способствовало, благодаря последовавшему за этим неудовольствию, увеличению в республиканцах чувства своей силы.
Было вполне правильно и необходимо указать народу на фактическое равенство как на истинную и законную цель революции, но, кроме того, было важно обратить его внимание и на форму правления, способную сохранить это равенство.
С этой целью Тайная директория рассмотрела конституцию 1793 года с большей тщательностью, чем это делалось до сих пор (тогда к этой конституции, казалось, присоединялись все искренние сторонники Республики); и так как Тайная директория в то же время обсуждала вопрос об учреждениях, которым предстояло основать равенство, то ей было тем легче установить недостатки конституции 1793 года и отметить дополнения, в которых она нуждалась.
По примеру Комитета, собиравшегося у Амара, наши заговорщики видели основное зло этой конституции в тех статьях декларации прав, которые касаются собственности. Что касается конституции в целом, то они полагали, что она недостаточно предохраняет народ от узурпаций Законодательного корпуса и от тех заблуждений, в которые народ мог быть вовлечен. В конце данного сочинения будет видно, какими дополнениями она предполагала предупредить эту опасность.Несмотря на вышеуказанные недочеты, Тайная директория решилась по двум высшим соображениям поддерживать уважение, оказываемое республиканцами этой конституции: одним из них было почти единодушное утверждение, полученное ею от народа; другим — узаконение ею права народа обсуждать законы. Тайная директория усматривала отличительную черту конституции 1793 года главным образом в последнем пункте; почти все остальные-части её казались Тайной директории только регламентирующими статьями.
Итак, было решено сделать эту конституцию краеугольным камнем и указать на установление ее, как на средство достижения дорогого всем равенства; в то же время не переставали подчеркивать его справедливость, требовать его осуществления и развивать его основные законы.
Не с помощью кучки мятежников, взбунтовавшихся из корысти или из неразумного фанатизма, намеревалась Тайная директория свергнуть правительство узурпаторов: она не желала иного рычага, как только силы истины.
Открыто и полно изобразить права народа и преступления его угнетателей — вот, что являлось единственным средством, с помощью которого Тайная директория рассчитывала поднять парижский народ против тирании; в тот момент, когда негодование стало бы сильным и всеобщим, она подняла бы знамя и дала сигнал к восстанию.
Потому первой ее задачей было убедить и увлечь: она не жалела ни речей, ни воззваний, и, чтобы дать им возможность распространяться с пользой, она образовала в Париже множество не знавших друг о друге маленьких ячеек, всеми ими руководили демократы, сами получавшие указания от двенадцати революционных агентов.
Будет не лишним отметить в инструкции, данной этим агентам, предосторожности, которыми Директория общественного спасения старалась оградить демократов от неосмотрительности и измены.
С самого начала революционные агенты предназначались стать рычагом борьбы парижского народа против тиранов; пока же они образовывали революционные ячейки, руководили народными прениями, распространяли прокламации и давали Тайной директории отчеты о развитии общественного мнения, об интригах аристократии, о численности, энергии и способностях демократов.
Не следует удивляться, что мероприятия наших заговорщиков касались главным образом Парижа: надо было поразить аристократию прямо в сердце; кроме того, многочисленное население этой коммуны легко могло передать затем свое движение демократическим элементам, рассеянным по всей Республике.
Выбор революционных агентов был весьма важным делом; столь ответственные функции могли быть доверены только таким людям, которые с постоянной любовью к равенству, с испытанной осторожностью и с доверием к ним народа, соединяли бы большую энергию и некоторое образование, они были назначены Тайной директорией по большинству голосов и после тщательного рассмотрения мотивов, приведенных каждым из лиц, выставлявших их кандидатуру.
Наличие большого количества сил, преданных тирании, при сравнении с той безоружностью, к которой власть привела народ под предлогом отобрания оружия то у роялистов, то у террористов, значительно уменьшило активность народа; оно должно было обескуражить его и вызывать в нем опасения малейшего столкновения.
К числу препятствий, которые могли помешать успеху задуманного дела, Тайная директория относила сопротивление войск и даже одну только мысль в народе о возможности такового. Поэтому она заблаговременно подумала о сведений этого препятствия на нет, с этой целью она пробуждала в сердцах солдат любовь к демократии, напоминала им о тех великих целях, за которые они проливали кровь, и незаметно освобождала их от рабского повиновения своему начальству, вменявшегося им тиранами в главную обязанность.
Чтобы в одном общем порыве связать свои силы с силами народа, заговорщики стремились влиянием истины зажечь в армии ненависть к аристократическому правительству.
С этой целью Тайная директория постепенно добавила к районным агентам военных агентов, имеющих такие же обязанности по отношению к батальонам, расквартированным в Париже и его окрестностях. Она оказала свое доверие:
1) Фиону — для работы среди инвалидов;
2) Жермен — в полицейском легионе [30];
3) Массею — в отрядах, расквартированных во Франсиаде;
4) Ваннеку — вообще среди войск, и
5) Жоржу Гризелю — в Гренелльском лагере.
Роль, которую этот Гризель сыграл в развязке заговора, заставляет нас изобразить полностью обстоятельства и мотивы, открывшие ему доступ к главным защитникам свободы.
Кроме вышеупомянутых гражданских и военных агентов, Тайная директория имела контролеров, следивших за поведением первых, корректировавших это поведение и вливавших во всю деятельность новую силу.
Эта важная обязанность была возложена на Дартэ и Жермена. Тот и другой оказали тогда делу равенства самые крупные услуги; благодаря им Тайная директория знала подробнее, что происходит на собраниях; как раз им давались самые трудные поручения, которые они выполняли с точностью и мужеством, обнаруживающими глубокую убежденность и полное самопожертвование.
Дартэ, неутомимый и бесстрашный, умеющий заражать души слушателей жаром своей души, останавливать слишком стремительные порывы и примирять мнения различных оттенков, старался подбодрить и объединить друзей равенства и разыскать тех из них, кто мог наилучшим образом служить делу равенства. С этим намерением он посещал кафе «Китайские бани», куда ежедневно сходилось много демократов, и сблизился с Жоржем Гризелем из Аббевиля, тогда свитским капитаном в третьем батальоне 88-ой линейной полубригады, стоявшей лагерем на Гренелльской равнине, близ Парижа.
Гризель, должно быть, подобно многим другим видевший в революции только средство к личному возвышению, искал знакомств с патриотами; подражая их языку, ему удалось прослыть среди них пылким революционером, и с тех пор ему было нетрудно завоевать благожелательство нескольких демократов, которые представили его Дартэ как человека, весьма ценного для их партии. Неосторожные похвалы, расточаемые Гризелю введшими его лицами, а также его речи и усердие, с которым он взялся распространять в войсках прокламации Тайной директории, сам составив инсуррекционную брошюру, имевшую целью вызвать неповиновение в армии, все это убедило слишком доверчивого Дартэ в чистоте намерений Гризеля; и заставило решиться предложить его Тайной директории, как раз нуждавшейся в военном агенте для Гренелльского лагеря. Он был назначен, и 26 жерминаля Дартэ вручил ему инструкцию, излагавшую его обязанности.
Как только учреждаемая агентура была достаточным образом организована, Тайная директория, желая вывести народ из заблуждения, занялась непрерывным распространением прокламаций. Дело было в том, чтобы доказать народу, что его суверенитет узурпирован существующей властью, что конституция 1793 года является единственной законной, что всеобщее счастье может вытекать только из истинного равенства, и что зло, которое народ приписывает революции, происходит исключительно от того, что она не достигла своей цели. Демократы пустили в ход все свои перья. Бабёф писал в духе инсуррекционной организации в своем «Народном трибуне», а Симон Дюплей пропагандировал те же идеи среди трудящихся классов посредством маленького листка, под заглавием «Просветитель». Республиканцы, руководившие «Журналом свободных людей», также оказали демократии важные услуги, осмеливаясь вести прения о форме правления и о великой системе равенства, правильность которого они выявляли путем неопровержимых ответов на предварительно доставленные возражения.
Одна из первых задач Тайной директории заключалась в том, чтобы вразумительнейшим образом показать народу те принципы, которые он должен был отстаивать; она сделала это посредством воззвания «Содержание доктрины Бабёфа», розданного 20 жерминаля в большом количестве по рукам и расклеенного. Хотя правительство старалось эту прокламацию изъять, воззвание настолько поразило все умы, что аристократы перепечатали его в свои журналы, как шедевр экстравагантности и смелости, а патриоты сделали ее предметом своих разговоров и надежд.
23 жерминаля появилось «Мнение о наших двух конституциях»; 24-го было напечатано «Письмо Воли-свободы к своему другу Террору» (редактированное Гризелем); 25-го начала ходить прокламация, озаглавленная «Следует ли повиноваться конституции 1795 года?». 27-го роздали «Воззвание трибуна к армии»; 29-го распространили «Письмо в ответ М. В.», а 1 флореаля был выпущен «Окрик французского народа на своих угнетателей».
Работе Тайной директории прекрасно помогали: преследование, еще тяготевшее над многими патриотами, и все возрастающая нужда, испытываемая трудящейся частью нации; это был момент, когда прогрессирующее падение ассигнаций, заставляя сократить продовольствие, начало вынуждать рабочих лишать себя самого необходимого или продавать последнюю утварь и одежду.
Это стесненное положение, а также прокламации, в которых Тайная директория показывала причину этого положения и предлагала против него радикальное средство, вызвали брожение, настолько острое и настолько всеобщее, что вскоре недовольство, пропагандируемое тайными обществами, вспыхнуло открыто и вызвало многочисленные собрания; к половине жерминаля IV года [XXIX] их можно было видеть и на улицах, и на площадях, и на мостах Парижа.
Тогда-то захватчики народного суверенитета достоверно узнали, что их враги сильно объединились, и что народ, требуя равенства и демократической конституции, выказывает сожаление к лицам, принесенным в жертву аристократии и вообще всяким низким людям, в термидоре II года и в прериале III года.
Все, что делалось в Париже, — мнения, речи и споры, — все ежедневно передавалось Тайной директории в докладах ее агентов и в устных сообщениях принятых ею контролеров, осведомляли ее об этом и многие демократы, ловко проникшие в правительственную полицию. Вскоре Тайная директория заметила, что результат ее воздействий превзошел все ее ожидания, и почувствовала, что крайне необходимо объединить все средства, с помощью которых она думала руководить, и сделать продуктивным то народное движение, предвестники которого уже были налицо.
Почти каждый вечер заговорщики собирались в конспиративной квартире Бабёфа, всегда имевшего под рукой главные документы и печать заговора; на этой печати, по которой революционные агенты узнавали приказы Тайной директории, вокруг по краю шли слова «Общественное спасение».
На этих собраниях рассматривали следующие дела:
1. Донесения агентов и проекты ответов на них;
2. Подлежащие печатанию прокламации;
3. Предложения о форме ведения восстания;
4. Законодательные положения, которые должны были сопутствовать восстанию;
5. Вопросы об учреждении и организации Республики.
Все решения, принимавшиеся Тайной директорией по большинству голосов, регистрировались и служили материалам для корреспонденции и для распределенных между заговорщиками подготовительных работ. Все было без подписи. Бабёф, вынужденный, благодаря преследованию, скрываться, был почти единственным редактором писем и инструкций; необходимая отправка их производилась секретарем, а разноска по революционным агентам — Дидье.
Постановив, что деятельность народа должна быть направлена против существующего правительства и на установление конституции 1793 года, Тайная директория должна была решить один вопрос, который в силу определенного положения вещей оказывался весьма трудным: речь шла о том, чтобы установить, какой формой правления следует немедленно заменить ту, уничтожение которой теперь обсуждалось.
Существовал взгляд, что невозможно и небезопасно моментально созвать подготовительные собрания с целью назначения Законодательного корпуса и правительства, требующегося конституцией 1793 года. Было ясно, что сначала должен пройти некоторый промежуток времени между восстанием и установлением новой конституционной власти, и было не менее понятно, что крайне неосторожно оставить нацию хотя бы на момент без руководителя и руководства.
Некоторые соображения побуждали Тайную директорию думать, что этот промежуток должен быть продолжительнее, чем время, которое потребуется только на выборы и на прибытие новых депутатов. Эти соображения заслуживают пояснений.
Изменение формы общественного управления не было единственной целью, которую себе ставили наши заговорщики, они хотели, — и в этом заключалась важнейшая часть их намерений, — дать Франции хорошие и устойчивые законы.
Хотя Тайной директории было небезызвестно, что способ издания и исполнения закона может оказывать некоторое влияние на основываемые учреждения, однако история и опыт французской революции показывали ей, что неоспоримое действие неравенства заключается в разделении городского населения, в создании противоположных интересов, в поддержке вражды и в подчинении толпы — которую оно делает невежественной, легковерной и жертвой чрезмерного труда — кучке образованных и ловких людей, злоупотребляющих захваченным ими преимуществом и старающихся сохранить и укрепить при распределении имущества и всякого рода преимуществ порядок, выгодный им одним: отсюда Тайная директория заключала, что народ, так нелепо устраненный от естественного порядка, почти неспособен произвести выгодные ему выборы и нуждается в чрезвычайном средстве, которое сможет привести его к такому положению, когда народ будет в состоянии действительно, а не фиктивно, пользоваться всей полнотой своего суверенитета.
Из этого образа мыслей возник проект заменить существующее правление временной революционной властью, сконструированной так, чтобы навсегда вырвать народ из-под влияния естественных врагов равенства и чтобы дать ему единство воли, необходимое для установления республиканских учреждений.
Какою же будет эта власть? Таков был тот сложный вопрос, который Тайная директория рассмотрела весьма тщательно. Приводились три предложения, уже поднимавшиеся на собраниях у Амара: по первому созывалась часть членов Конвента; по второму создавалась диктатура, а по третьему учреждался новый орган, которому поручалось довести революцию до счастливого конца.
В первом Комитете Амар предлагал созвать Национальный конвент; этот орган, говорил он, может быть заменен только поставленной народом властью; так как существующая конституция и законы противны суверенной воле народа, то Конвент является единственной законной властью. С другой стороны, продолжал Амар, декреты могут быть законными только при наличии свободы депутатов; а она гарантируется формами преследования тех из депутатов, которым могут быть предъявлены какие-либо важные обвинения: а между тем члены Конвента были арестованы, сосланы или лишены своих политических прав без всякого суда и следствия, как это было в жерминале и прериале III года; поэтому акты Конвента после этого насилия лишены всякого значения; редакция конституции III года должна рассматриваться как недействительная, и настоящими представителями народа являются лица, непричастные к этому злоупотреблению властью или же бывшие его жертвами.
Сообразно с этим рассуждением Амар предлагал вручить верховную власть тем членам Конвента, которых Конвент объявил неподлежащими избранию, а также тем, которые, будучи исключены из Законодательного корпуса, являлись непричастными к узурпации.
Однако многие из этих членов Конвента обвинялись в участии в преступлении 9 термидора; в преследовании демократов под именем анархистов, «исключительных», террористов и т. п., а также в закрытии народных обществ, во вводе в Конвент семидесяти трех жирондистов и в освобождении всех аристократов; кроме того, их обвиняли в слабости, благодаря которой они позволили убить стольких из своих товарищей; в молчании, хранимом ими относительно предложения изменить конституцию; в чрезмерном властолюбии, в обогащении некоторых из них и вообще в крайнем малодушии при защите прав народа [31].
Могли ли люди, проникнутые сознанием необходимости вручить судьбы отечества только лицам, наиболее благоразумным и наиболее мужественным, решиться призвать к верховной власти людей, заслуживших при несении ее столь тяжелые упреки?
Тайная директория полагала, что данные веские причины должны быть поставлены выше довольно сомнительного преимущества, которое могла дать видимость законности, с помощью которой надеялись смягчить прежние обиды и победить сопротивление.
Наоборот, она думала, что, основывая успех своих планов исключительно на влиянии демократов всей республики (которые, по всей вероятности, поддержат движение, начатое парижскими демократами), лучше отложить в сторону всякое хитроумие и предпочесть путь, дающий больше всего гарантий против ошибок и слабостей людей, которые будут поставлены у власти.
Отклонив таким образом созыв Конвента, Тайная директория остановилась на мысли о назначении восставшими временного правительства, которому будет необходимо вверить управление нацией. Действительно, при физической невозможности устроить сейчас же выборы с участием всех французов, это был единственный способ воздать народному суверенитету все допускающееся обстоятельствами уважение. К этому преимуществу присоединялось преимущество большей вероятности удачности выбора людьми, преданность которых принципам новой революции заверялась мужеством, с которым они ее защищали.
Тайная директория предвидела, что хитрые враги равенства попытаются поднять население департаментов против того, что они не преминут назвать захватом «парижскими разбойниками прав суверена». Желая поступать только по справедливости, она рассмотрела его возражение, и вот как она его опровергла:
«Когда существует тирания, каждый гражданин имеет право и обязан приложить все старания к ее уничтожению. Однако невозможно, чтобы все граждане обширной республики обрушились с этой целью на власть, подлежащую свержению: значит, первыми должны взяться за дело те, кто близко стоит к ней; и так как важно, чтобы новая власть непосредственно наследовала прежней, то восставшие должны этому способствовать.
Впрочем, так как право свергнуть тиранию возлагается самой природой вещей на ту народную секцию, которая находится по соседству с органами тирании, то ей же дается недоступное никому иному право временно заменить старую власть, насколько это будет возможно, формой правления, соответствующей принципам национального суверенитета».
Затем речь шла о том, чтобы определить, какая временная форма правления будет предложена парижскому народу во время восстания. На этот счет существовали различные мнения: несколько членов Тайной директории подавали голос за единоличную магистратуру, другие предпочитали новый орган, составленный из небольшого числа испытанных демократов. Последний взгляд взял верх.
Дебон и Дартэ, предлагавшие диктатуру, связывали с этим названием представление о чрезвычайной власти, вверяемой одному лицу, на которого возлагается двойная обязанность: во-первых, предложить народу простое законодательство, способное обеспечить ему равенство и фактическое пользование суверенитетом, и, во-вторых, временно диктовать подготовительные меры, имеющие своей целью расположить нацию к принятию этого законодательства. По их мнению, столь смелая и столь важная задача, хорошо выполнимая только при полном единстве мысли и действия, должна была быть задумана и выполнена одним и тем же лицом. В подкрепление своего взгляда они приводили в пример древние народы и напоминали о гибельных последствиях плюрализма, недавние доказательства которых они усматривали в разделениях Комитета общественного спасения.
Им казалось, что опасность злоупотреблений, возможных при подобной магистратуре, легко устранима, если добродетель гражданина, облекаемого этой магистратурой, будет всем хорошо известна, если цель, которую он должен достигнуть, будет ясно и законно изложена, и если заранее будут установлены пределы продолжительности этой магистратуры.
Задача Тайной директории при достижении этой системы сводилась бы к обрисовке в кратких чертах предмета реформы, к установлению срока новой магистратуры, к нахождению наиболее достойного гражданина Республики и к внушению своего плана восставшим парижанам.
Однако Тайная директория судила об этом иначе: это не значит, что она не признавала правильности мотивов, приводимых в защиту диктатуры, но трудность выбора, боязнь злоупотреблений, внешнее сходство этой магистратуры с королевской властью, а больше всего общее предубеждение, казавшееся непобедимым, заставили отдать предпочтение немногочисленному органу, которому можно было вверить те же полномочия, не имея пред собой стольких подлежащих устранению препятствий.
Результатом этого важного обсуждения было решение, что после уничтожения тирании парижскому населению будет предложено учредить облеченное верховной властью национальное собрание; в его состав войдет по одному депутату от департамента; а между тем Тайная директория произведет тщательные расследования относительно предлагаемых депутатов; выполнив революцию, она не прекратит своих работ и будет наблюдать за поведением нового собрания.
В то время, как заговорщики определяли таким образом эти главные пункты своей программы, они внимательно учитывали малейшие намерения народа; они не пренебрегали ничем, чтобы гарантировать себе победу в день восстания, который мог оказаться днем сражения. Собственно говоря, было основание думать, что армия поддастся народному движению, но было бы крайне неосторожно не принять во внимание то влияние, которое офицеры, как плохие граждане, могли оказать на привыкших к повиновению невежественных солдат.
Удваивая усилия для привлечения солдат правительства к народному делу, Тайная директория старалась сделать демократов сильнее солдат на тот случай, если бы пришлось попасться в их руки, Она намеревалась срочно создать народную армию и с этой целью собирала сведения о числе, достоинствах и способностях демократов, а также о силах своих врагов и о местах, где народ мог бы запастись оружием и снаряжением; она приготовляла в Париже квартиры для республиканцев, созываемых ею со всех концов Франции в поддержку друзьям свободы, и заботливо намечала склады с продовольствием, чтобы в великий день искупления голод не принудил бы народ покинуть поле битвы, как то было в прериале III года.
Из провинциальных патриотов особенное внимание Тайной директории привлекали лионцы. Среди них в Париже были такие, которые заслужили доверие Робеспьера, а оставшиеся в Лионе так себя там вели, что можно было ожидать от них самых крупных услуг. Тайная директория поручила Бертрану, бывшему мэру этого города, объединить их и руководить ими в духе инсуррекционной организации.
20 жерминаля IV года среди парижского населения обнаружилось сильное волнение, которое преступные партии постарались использовать к своей выгоде, соперничая в этом отношении с демократами.
Тогда в государстве существовали из крупных две такие партии. Люди, ловко завладевшие под флагом равенства богатством и властью, люди, которых я назвал ложными друзьями равенства или агрессивными эгоистами, образовали партию, имевшую своими вождями Барраса, Тальена, Лежандра, Фрерона, Мерлена, де Тионвилля, Ребелля и др. Вторая состояла из друзей старого порядка неравенства, которых я подразумевал под названием эгоистов консерваторов или бывших аристократов: она объединяла остатки жирондистов, авторов новой конституции, и даже роялистов, надеявшихся на некоторые выгоды: 1) от того направления, которое внушалось общественному мнению этой партией, и 2) вообще от всех стремлений уничтожить равенство; в ее рядах числились Буасси д’Англа, Ларивьер, Тибодо, Дюмолар, Камил Жордан, Ларвельер-Лепо, Ланжуинэ, Нарталис, Пасторэ, Симеон и др.
Первая из этих партий желала конституции только постольку, поскольку та поддерживала бы ее примат; вторая от детального выполнения этой конституции ожидала для себя новых успехов. Последняя, менее численная, но более предприимчивая и более смелая, замышляла насильственные действия против той партии, которую она обвиняла в расчетах на восстановление монархии и которая, в свою очередь, будучи количественно сильнее, но трусливее и лицемернее, предполагала подавить противников оружием конституции.
Аристократия, какова бы она ни была, отвергает одновременно и равенство, и всякую иную аристократию, соперничества которой она, опасается; она готова устранить своих соперников под любым предлогом.
А так как ничто так не вредит общественным деятелям в мнении толпы, как беспорядочность действий и алчность, то старые аристократы старались вызвать упреками этого рода негодование народа против истинных или ложных сторонников равенства, чего последние из них больше чем заслуживали.
Агрессивные эгоисты противопоставляли нападениям такого рода массу людей, принимавших какое-либо участие в революции. Они сумели представить врагами Республики всех без различия критиков их преступлений; они запугивали республиканцев всех оттенков опасностью близкого возврата королевской власти; они утверждали, что права народа забыты ради борьбы с заговорами роялистов, дерзость которых якобы одни они могли подавить, и, наконец, они пускали в ход все средства, чтобы стать в центре народного движения: приближение его не было для них тайной.
По плану этой преступной партии восстание, которое она рассчитывала взять в свои руки, должно было иметь одну цель: устранить из Законодательного корпуса и из Директории не нравившихся ей людей, каковыми были Буасси д’Англа, Иснар, Кадруа, Ровер, Ларивьер и др.
С этой целью был вызван сильный протест Законодательных советов против только что случившихся убийств на юге Франции, в организации которых обвинялись некоторые из вышеупомянутых лиц; однако подстрекателями к данному преступлению долгое время были как раз теперешние враги этих лиц. Лицемерные отступники рассеивались по общественным местам, чтобы преувеличить число и попытки заговорщиков-роялистов, отвлечь внимание народа от преступлений ложных сторонников равенства и вернуть последним доверие народа. Таким образом, недальновидные республиканцы оказывались между соблазном революционных вероломцев и советами истинных демократов.
Это двойное воздействие порождало опасные препятствия для работы Тайной директории, вскоре почувствовавшей необходимость положить тому конец.
Она искала путь к этому все еще в истине; она разоблачила западню, и западня была уничтожена. Один из номеров «Народного трибуна», посвященный разоблачению преступлений отступников народной партии, привел в замешательство их эмиссаров, и можно уверенно сказать, что из людей, принимавших какое-либо искреннее участие в революции, у них не осталось ни одного сторонника; скорое низвержение тирании, созданной конституцией III года, стало общим желанием.
В то же время Тайная директория узнала, что Рикор, Леньело, Шудье, Амар, Гюге и Жавог [32], все монтаньяры из Конвента, осужденные в жерминале и прериале III года, сговариваются стать во главе ожидаемого ими восстания и таким образом восстановить Конвент, а следовательно, и конституцию 1793 года. Эти замыслы, к которым неосновательно приобщали Барера [XXX] и Вадье [XXXI], показались Тайной директории столь важными, что она сочла необходимым сделать их предметом серьезного обсуждения.
Следует ли уступить место осужденным монтаньярам? Следует ли пытаться присоединиться к ним? Следует ли противодействовать их намерениям? Таковы были вопросы, поднятые на эту тему Тайной директорией.
Для устранения комитета монтаньяров были те же мотивы, что и для отклонения созыва Конвента, но к ним еще присоединялось знание, что у одних из его членов недостаточно демократические взгляды, а другие отличаются крайней слабостью. Но так как, с другой стороны, признавались заслуги, когда-то оказанные ими Республике, то Тайная директория ограничилась тем, что поручила революционным агентам внушить народу недоверие к возможным попыткам по наущению этих монтаньяров; в то же время на них была возложена обязанность заботиться о безопасности монтаньяров и предупреждать их о мерах, предпринимаемых против них правительством; Тайная директория ежедневно предупреждалась об этих мерах несколькими главными агентами министерства полиции.
Пред лицом опасности, одинаково угрожавшей всем стоявшим у власти преступным партиям, последние не замедлили объединить свои усилия против демократии.
Быстрота, с которой снова начали распространяться демократические принципы, смелость сочинений, призывавших к новой спасительной революции, эти многочисленные сборища, где оглашались преступления узурпаторов и где громко требовалась конституция 1793 года, это единодушие желаний, в которых сказывалось действие широкого замысла едва различимых руководителей, а также нетерпение толпы и смелость заговорщиков — все это сеяло ужас в рядах врагов равенства, чувствовавших необходимость прекратить свои распри и направить, все свои усилия против неподкупных проповедников народных учений.
В это время одно сообщение Исполнительной директории подняло на ноги всех врагов республики; в этом сообщении на демократов возводилась ужаснейшая клевета и требовались декреты об их ссылке и смертной казни.
В данных обстоятельствах лицемерие, при помощи которого думали оправдать насильственное закрытие общества «Пантеон», стало метать свои отравленные стрелы еще озлобленнее. Правительство, желая внушить отвращение к демократам, обвиняло их в стремлении ввергнуть государство в ужаснейшую анархию с двойным будто бы расчетом — восстановить этим королевский деспотизм, а пока что поживиться грабежом.
Подобными обвинениями послетермидоровский Конвент добился подчинения Франции игу новой аристократии. Но был ли здравый смысл в том, чтобы обвинять в продажности тех людей, которые вышли из революции бедняками, хотя они занимали должности, дававшие им столько случаев к обогащению?
Прилично ли было тем, кто после 9 термидора совершил столько насилий, указывать, как на анархистов, на людей, потребовавших, в конце концов, только исполнения закона, санкционированного народом? Подлинная и единственная анархия, говорили демократы, заключается в тех мнимых законах, которые, насилуя права людей, осуждают народ или на постоянно повторяющиеся смуты, или на смертельную летаргию. Их обычное поведение и постоянное желание установления истинной республики были достаточным ответом на обвинение в скрытом роялизме, чему больше никто не верил. Роялисты приветствовали эту нечестную игру, освобождавшую их от наиболее опасных врагов и даже зарождавшую в них напрасную надежду сделать себе из них союзников.
Столь основательные причины не смутили наглости Исполнительной директории; основанная на захвате прав народа, она заботилась только об их уничтожении, и это гнусное стремление заглушало в ней всякое чувство стыда. Она думала, что, упорствуя в клевете, ей удастся задушить истину, и надеялась привлечь к себе все классы граждан, неустанно изображая своих врагов в самых ужасающих красках.
Однако ее вероломное сообщение заключало в себе одну истину, заставлявшую бледнеть всех злобствующих: оно подтверждало существование отважной организации, ставящей себе целью свержение новой конституционной тирании.
Трусость и развращенность депутатов были тогда так велики, что между ними не нашлось ни одного, кто осмелился бы открыто взять под свою защиту права народа, все члены Совета пятисот, за исключением двенадцати, поторопились признать пагубные законы 27 и 28 жерминаля IV года, которые в тот же день были единогласно утверждены их достойными коллегами в другом Совете.
Эти акты, недостойные имени законов, являлись покушением на общественную свободу. Согласно им, всякое мирное собрание граждан могло быть разогнано как мятежное сборище; согласно им, всякий спор о преимуществах и неудобствах различных форм правления мог наказываться смертью; согласно им, всякое улучшение в государственной конституции становилось невозможным; наконец, согласно им, у французов, уже лишенных права обсуждать законы и организовываться в политические общества, отнималось право свободно высказывать свои мысли о делах нации.
С тех пор агенты, подчиненные тирании, удвоили свою дерзость против ораторов, писателей и лиц, распространявших демократическую литературу; малейшее замечание, намек на ропот, превращенные в мятежное подстрекательство, постоянно доставляли предлог для ареста лучших граждан; против людей, шедших в общественные места искать в излияниях дружбы некоторое утешение в страданиях, причиняемых бедствиями отечества, употреблялась военная сила.
Все искренние друзья свободы были охвачены священным негодованием, заставившим их принять решение оказать гнету сопротивление; они открыто говорили, что настало время сдержать клятву жить свободными или умереть.
Но Директория общественного спасения, занимавшая пункт, с которого она могла сравнивать силы своей партии с силами врагов, полагала, что время боя еще не пришло. Опасаясь одного из тех плохо подготовленных событий, которые так способствовали установлению аристократической власти, и рассматривая свое предприятие, как последнее усилие, неуспех которого совершенно погубил бы демократию, она не могла решиться дать сигнал к нападению, прежде чем будут осторожно координированы все инсуррекционные элементы, считавшиеся ею необходимыми для одержания победы.
Хотя имена вождей Тайной директории были окутаны спасительной тайной, однако их союз и их работа были известны всем демократам; это знание, поддерживавшее в демократах надежду, делало их восприимчивыми к советам, получаемым ими от революционных агентов или же благодаря «Народному трибуну» и «Просветителю».
Благодаря этому доверию, Тайная директория оказалась в состоянии остановить преждевременный взрыв, вызванный законами 27 и 28 жерминаля; даже самые умеренные демократы сравнивали их с прежними военными законами.
Но между тем как одной рукой она сдерживала это опасное возмущение, другой рукой она торопилась собрать воедино все нити, которые должны были привести ее к быстрой развязке и несомненному успеху. Медленность, могущая поддержать ее врагов и разделить и расхолодить ее друзей, казалась ей не менее опасной, чем неосторожная стремительность. Решившись внезапно спасти свободу или погибнуть вместе с нею, она усиливала деятельность революционных агентов, удваивала старание привязать к себе армию, в которой она не была еще уверена, и усердно занималась выработкой форм восстания и того законодательства, которым это восстание должно было сопровождаться.
Первый вопрос, сам собою ставившийся на обсуждение, касался способа низложения незаконной власти и лишения ее членов возможности предпринять что-либо против равенства. Тайная директория единодушно намеревалась достигнуть эту двойную цель примером правосудия, способного напугать изменников и внушить справедливость тем лицам, которых народ почтит в будущем своим доверием.
Члены двух Советов и члены Исполнительной директории являлись, без малейшего сомнения, преступными в возмутительной измене и явной узурпации. Обагренные кровью лучших граждан, они отняли у народа его суверенитет и принесли большинство нации в жертву притязаниям кучки ненасытных и честолюбивых богачей.
Суровое наказание было необходимо, но вслед за днем справедливого и спасительного террора, оставляющего после себя только воспоминание о законном и слишком запоздалом взрыве, должны были придти снисходительность и забвение.
Большинство парижан, недовольных, встревоженных и несчастных, обращали свои взоры к прошлому и жалели о временах, предшествовавших 9 термидору. Для свержения тиранов им только недоставало руководителей из бесстрашных республиканцев, ждавших в свою очередь только сигнала наших заговорщиков.
При таком положении дел заговорщики увидели, что важно вырвать трудящиеся массы из-под влияния существующего правительства и держать их исключительно под влиянием демократов; поэтому они постановили, что в день восстания все существовавшие до сих пор отношения между правительством и гражданами должны быть порваны, что народ встанет под знамена, порученные лицам, выбранным Тайной директорией, и что давать или исполнять какой-либо приказ от имени власти тиранов было бы в этот день преступлением против нации, моментально наказываемым смертной казнью.
Тайная директория полагала, что для внесения порядка в подготовляющееся большое движение необходимо открыто объявить себя его вождем и, в качестве такового, указать народу на те требования, которые должны были в нем созреть, а также указать линию поведения, которой он должен был следовать, препятствия, которые он должен был победить, и ловушки, которые было важно разрушить.
С этой целью она после долгого и серьезного обсуждения приняла тот знаменитый «Акт восстания», обнародование которого должно было послужить сигналом к новой революции.
Он был составлен в следующих выражениях:
«Принимая во внимание, что гнет и нищета народа достигли своего апогея и что это несчастное тираническое положение является делом рук существующего правительства;
— принимая во внимание, что многочисленные преступления правительств постоянно вызывали всегда бесполезные жалобы их подданных;
— принимая во внимание, что конституция, которой народ присягнул в 1793 году, была отдана им под защиту всех добродетелей, и что, когда целый народ лишился всех средств защиты против деспотизма, то наиболее смелые и наиболее бесстрашные должны взять на себя инициативу восстания и руководства освобождением масс;
— принимая во внимание, что признанные тогда же в 93 году права человека предоставляют целому народу или каждой из его частей самое священное из прав и самую необходимую из обязанностей — право восстания против правления, попирающего его права, — и предписывают каждому свободному человеку моментально предавать смерти узурпаторов его суверенитета;
— принимая во внимание, что одна мятежная партия узурпировала суверенитет, подменив своей частной волей всеобщую волю, свободно и законно выраженную на первичных собраниях 1793 года, и что ее хартия предписывает французскому народу, под страхом преследования и убийства всех друзей свободы, гнусный кодекс, названный «конституцией 95 года», заменяющий демократический договор 1793 года, который был принят народом с таким восторгом;
— принимая во внимание, что тиранический кодекс 95 года нарушает самое драгоценное из прав, так как он устанавливает различия между гражданами, лишает их возможности утверждать законы, изменять конституцию и устраивать собрания, ограничивает их свободу выбора общественных представителей и не дает им никакой гарантии против узурпации правителей:
— принимая во внимание, что авторы этого чудовищного кодекса оставались в состоянии непрерывного бунта против народа и, пренебрегая его верховной волей, присвоили себе власть, которую могли получить только от нации, и что они сделались — самолично или с помощью кучки мятежников и врагов народа — одни королями (скрыв это под иным названием), другие — неограниченными законодателями;
— принимая во внимание, что эти угнетатели сделали все возможное, чтобы деморализовать народ, оскорбили, унизили и, наконец, изгнали все признаки и учреждения свободы и демократии, убили лучших друзей Республики, созвали ее свирепейших врагов и оказывали им покровительство, разграбили и очистили до дна всю общественную казну, выкачали все национальные источники дохода, окончательно обесценили республиканскую монету, создали самое позорное банкротство и предали алчности богачей все, вплоть до последних лохмотьев тех несчастных, которые вот уже 2 года ежедневно умирают с голоду, и, наконец, теперь эти угнетатели, не довольствуясь столькими преступлениями, приходят, чтобы из тиранической утонченности отнять у народа даже его право жаловаться;
— принимая во внимание, что они организовали и содействовали заговорам для поддержки гражданской войны в западных провинциях и обманывали нацию двуличным миром, тайные статьи которого заключали условия, противоречащие воле, достоинству, безопасности и интересам французского народа;
— принимая во внимание, что еще совсем недавно они призвали к себе множество иностранцев, и что главные заговорщики Европы находятся в настоящее время в Париже, чтобы провести последний акт контрреволюции;
— принимая во внимание, что они распустили и самим недостойным образом обращались с батальонами, имевшими доблесть отказаться поддерживать их жестокие намерения по отношению к народу; что они осмелились предать суду мужественных солдат, особенно энергично боровшихся против гнета, и возвели на них позорное обвинение, объясняя их стойкое сопротивление воле тиранов роялистским внушением;
— принимая во внимание, что было бы трудно и слишком долго вполне проследить и обрисовать братоубийственное поведение этого преступного правительства, каждая мысль которого, каждый поступок которого являются ущербом для нации; что доказательства всех этих преступлений начертаны кровью по всей Республике; что требование его низвержения является общим для всех департаментов; что вступить в борьбу с гнетом надлежит группе граждан, находящейся в ближайшем соседстве с угнетателями; что эта группа является хранительницей свободы и ответственна за нее перед всем государством, и что слишком долгое молчание сделало бы ее сообщником тирании, — и принимая, наконец, во внимание, что все защитники свободы уже готовы, французские демократы, сорганизовавшись в Инсуррекционный комитет общественного спасения, берут на себя почин восстания, отвечают за него головой и постановляют следующее:
Статья первая. Народ восстает против тирании.
Статья вторая. Цель восстания — восстановление конституции 1793 года, свободы, равенства и всеобщего счастья.
Статья третья. Сегодня, в один и тот же час, все граждане и гражданки выступают отовсюду, не сохраняя строгого порядка и не ожидая движения соседних кварталов, которых они увлекают за собою.
Они соединяется по звуку набата и труб, под предводительством патриотов, которым Инсуррекционный комитет вверит знамена со следующей надписью:
На остальных знаменах будут следующие лозунги:
«Когда правительство насилует права народа, восстание является самым священным из прав и самой непреложной из обязанностей всего народа и каждой его части.
Свободные люди предают узурпаторов суверенитета смерти».
Народные генералы узнаются по трехцветным лентам, явственно развевающимся на их головных уборах.
Статья четвертая. Все граждане отправляются со своим оружием или за неимением такового со всеми иными предметами нападения под предводительством вышеназванных патриотов в центры своих районов.
Статья пятая. Повстанцы забирают всякого рода оружие отовсюду, где оно будет найдено.
Статья шестая. Набережные и река тщательно охраняются: никто не может выйти из Парижа, не имея на то формального и специального ордера Инсуррекционного комитета; входить могут только курьеры, возчики и лица, доставляющие съестные припасы; они пользуются охраной и находятся в безопасности.
Статья седьмая. Народ захватывает национальное казначейство, почту, дома министров и все общественные или частные магазины с продовольствием или военным снаряжением.
Статья восьмая. Инсуррекционный комитет общественного спасения дает священным легионам лагерей в окрестностях Парижа, поклявшимся умереть за равенство, приказ повсюду поддерживать усилия народа.
Статья девятая. Патриотам из департаментов, скрывающимся в Париже, и храбрым уволенным со службы офицерам предлагается отличиться в этой священной борьбе.
Статья десятая. Оба Совета и Директория, узурпировавшие власть народа, уничтожаются. Все члены, входящие в их состав, предаются непосредственному суду народа. Статья одиннадцатая. Так как пред лицом народной власти всякая иная власть прекращается, то никакой мнимый депутат, член захватнической власти, член Директории, администратор, судья, офицер, унтер-офицер национальной гвардии или какой бы то ни было чиновник не вправе совершить какой-либо акт власти или отдавать какой-либо приказ; сопротивляющиеся моментально предаются смерти.
Всякий член мнимого Законодательного корпуса или член Директории, обнаруженные на улице, арестовываются и тотчас отводятся к обычному месту своей службы.
Статья двенадцатая. Всякое сопротивление подавляется на месте силой. Сопротивляющиеся истребляются.
Также предаются смерти:
1. лица, которые убьют или велят убить генерала;
2. обнаруженные на улице иностранцы какой бы то ни было национальности;
3. все председатели, секретари и командующие роялистского заговора в вандемьере, которые тоже осмелились бы остаться на виду.
Статья тринадцатая. Всем послам иностранных держав предписывается оставаться в продолжение восстания в занимаемых ими помещениях; они под охраной народа.
Статья четырнадцатая. Народу приносится в общественные места всякого рода продовольствие.
Статья пятнадцатая. Все булочники мобилизуются для непрерывного приготовления хлеба, который будет раздаваться народу даром; они получают плату соответственно своим требованиям.
Статья шестнадцатая. Народ пойдет на отдых только после уничтожения тиранического правительства.
Статья семнадцатая. Все имущество эмигрантов, мятежников и всех врагов народа будет без промедления роздано защитникам отечества и беднякам.
Бедняки всей Республики сразу же будут вселены в дома мятежников и наделены их утварью.
Принадлежащие народу вещи, заложенные в ломбарды, тотчас будут безвозмездно возвращены.
Французский народ берет под свое покровительство жен и детей героев, павших в этом священном предприятии; он будет давать им пропитание и содержать на свой счет; то же будет сделано по отношению к их отцам и матерям, и братьям, и сестрам, находившимся на их иждивении.
Скитающиеся по всей Республике ссыльные патриоты получают помощь и соответствующие средства, чтобы вернуться к своим семьям. Понесенные ими потери будут возмещены.
Так как война с внутренней тиранией наиболее противоречит общему миру, то храбрые защитники свободы, доказавшие свое содействие окончанию войны, могут свободно вернуться со своим оружием и имуществом к своим очагам, кроме того, они там немедленно воспользуются так давно обещанной наградой.
Те из них, которые захотят продолжать службу Республике, также будут немедленно вознаграждены образом, достойным великодушия великой, свободной наций.
Статья восемнадцатая. Общественная и частная собственность ставится под охрану народа.
Статья девятнадцатая. Забота окончить революцию и дать Республике свободу, равенство и конституцию 1793 года будет вверена Национальному собранию, и состав которого войдет по одному депутату от департамента, назначенному восставшим народом по представлению Инсуррекционного комитета.
Статья двадцатая. Инсуррекционный комитет общественного спасения будет непрерывно существовать до полного завершения восстания».
Изложенный «Акт восстания» таил в себе зародыши многочисленных законодательных мер, предназначавшихся для оправдания в глазах народа благих намерений Тайной директории и законности ее предприятия.
Да и что, в самом деле, могло быть более правильным, чем следующие меры:
1. Раздача защитникам отечества и беднякам имущества эмигрантов, преступных заговорщиков и врагов народа;
2. Немедленное вселение бедняков в дома преступных заговорщиков;
3. Безвозмездное возвращение принадлежавших народу вещей, заложенных в ломбардах;
4. Предоставление народом покровительства женам, детям, отцам, матерям, братьям и сестрам граждан, погибших при восстании и т.п., на иждивении которых они находились.
Было бы не правильно рассматривать обещание широкой раздачи имуществ, как нечто, противоречащее духу коммунизма, который предстояло достигнуть.
Главное было одержать победу, и Тайная директория, не без труда принявшая свой «Акт восстания», чувствовала, что, чтобы достигнуть успеха, не надо проявлять ни слишком большую сдержанность, что могло бы обескуражить ее истинных друзей, ни слишком большую стремительность, что чрезмерно увеличило бы число ее врагов.
Обещанием раздачи имуществ Тайная директория привлекала внимание и поддерживала надежду в рабочем классе, не вызывая однако недоброжелательства тех, кто, ненавидя новую аристократию, не любил поэтому и фактического равенства.
Раздавать имущество — не значило дробить земельную собственность, потому что настоящим имуществом являются не земли, а приносимые ими плоды; и потому с распределением плодов обещание было бы вполне выполнено, — как раз это, как мы увидим, Тайная директория и собиралась сделать.
Тотчас же после уничтожения тирании, парижский народ должен был сойтись на месте революции на общее собрание. Там Тайная директория дала бы ему отчет в своем поведении и показала бы ему, что все его бедствия, на которые он жаловался, были следствием неравенства, а также напомнила бы ему о тех преимуществах, которые он был вправе ожидать от конституции 1793 года, и предложила бы утвердить «Акт восстания».
Затем восставшему народу было бы предложено тотчас создать временное правительство, которому поручалось бы закончить революцию и править до начала деятельности народных учреждений.
Чтобы получить от победившего народа указ, отвечающий его подлинным интересам, Тайная директория думала поставить на голосование имена тех демократов, которых она находила наиболее достойными столь высокого доверия.
Новое Собрание должно пред лицом неба взять на себя обязательство жертвовать собою для общего спасения и поклясться верно исполнять те приказания, которые предполагалось предписать ему следующим декретом:
«Парижский народ, свергнув тиранию и пользуясь правами, полученными им от природы, признает и объявляет французскому народу:
— что неравное распределение имущества и труда является неистощимым источником рабства и общественных бедствий;
— что общеобязательный труд является существенным условием общественного договора;
— что обладание всем имуществом Франции принадлежит по существу французскому народу, который один определять и изменять его распределение.
Парижский народ повелевает Национальному собранию, созданному им в интересах и во имя всех французов, усовершенствовать конституцию 1793 года, подготовить быстрое проведение ее в жизнь и обеспечить французскую Республику при помощи разумных учреждений, основанных на вышеприведенных принципах, неизменным равенством, свободой и счастием;
Парижский народ предписывает названному Собранию дать нации через год отчет в исполнении настоящего декрета,
и, наконец, обязуется внушать уважение к постановлениям этого собрания, которые будут согласоваться с вышеприведенными правилами, и наказывать как изменников тех из его членов, которые уклонятся от предписанных им обязанностей!»
Ниже мы увидим, какими законами Тайная директория предполагала определить судьбу Республики, но прежде проследим ход развития заговора, так как важно знать все его детали.
Между тем как наша Директория втихомолку выращивала все части своего великого предприятия, результаты ее внушений уже начинали сказываться в военных частях, расположенных в Париже и его окрестностях, — в частности в полицейском легионе и среди гренадеров, охранявших Законодательный корпус.
Ничто так не беспокоило правительство, как этот дух оппозиции, многочисленные симптомы которого уже были заметны среди военных; с этим на их глазах исчезал последний оплот, который они надеялись противопоставить народному гневу. Поэтому, истощив по отношению к полицейскому легиону все средства соблазна, оно было вынуждено дать приказ о выводе из Парижа наиболее недисциплинированных батальонов этого корпуса, который, по законам своего устава, никогда не должен был служить вне этого города. Этот приказ, подписанный 9 флореаля, сопровождался формальным неповиновением, непосредственным следствием чего было увеличение волнения в народе; думали, что настал момент для успешного освобождения от тирании.
Тайная директория, не вызывая сопротивления легионеров прямо, тем не менее способствовала его вспышке, благодаря тем идеям, которые она не переставала распространять; она тоже полагала, что подходит момент успеха, и хотя она еще не имела в своем распоряжении всех требовавшихся сведений, она решилась бы дать сигнал к восстанию, если бы у нее была уверенность в достаточности силы полицейского легиона для того, чтобы дать отпор первым усилиям правительства и таким образом увеличить доверие народа.
Для образования этой точки опоры были пущены в ход все средства, и на один момент явилась надежда произвести во внутренней армии [33] общее возмущение.
Революционные агенты частью рассеялись по полкам, а частью были наготове вызвать движение в народе; быстро организованный в полицейском легионе Комитет уже вошел при посредничестве Жермена в сношения с Тайной директорией; воззвание легиона к народу и ответ последнего, сделанный от его имени заговорщиками, указывали добрым гражданам на задачу, которую им предстояло выполнить; демократы были во всеоружии; все уже было готово придти в движение, когда неожиданное повиновение восставших батальонов заставило остановить движение из опасения навлечь на отечество непоправимую неудачу.
Декрет о роспуске солдат подавил восстание в самом зародыше. Довольно значительное количество легионеров подчинилось ему с радостью, и таким образом явилась возможность убедиться, что страх опасности со стороны границ был для многих из них истинным мотивом того сопротивления начальству, которое республиканские солдаты слишком поспешно приписали отважному патриотизму.
Но каковы бы ни были, быть может и неустановленные, причины этого неповиновения, демократы получили, благодаря ему, то преимущество, что могли располагать не только благонамеренными легионерами, но также почти всеми, кто исполнил приказ правительства, так как они удержали их в своих квартирах. Благодаря такому массовому дезертирству, образовался корпус, который Тайная директория рассчитывала поместить в авангарде инсуррекционной армии.
Описанное тревожное событие удвоило нетерпение народа, все возрастающая горячность которого предупреждала Тайную директорию, что нельзя дольше отсрочивать развязку заговора, не рискуя крайней опасностью. Можно было ожидать вспышек частичных выступлений, — по всей вероятности бесполезных, — а с другой стороны, казалась неизбежной потеря нескольких легионеров, арестованных за подстрекательство своих товарищей к сопротивлению; надо было предупредить ложные шаги и разбить иго тирании; эти обстоятельства склонили Тайную директорию ускорить момент восстания. Было 10 флореаля.
Нашим заговорщикам казались необходимыми две вещи: осторожность, без чего не был бы возможен никакой успех, и смелость, что устраняла бы всякие непредвиденные обстоятельства; они руководились первой и постоянно считали своим долгом обращаться ко второй. Желая ускорить катастрофу, рассчитывая на энергию демократов в деле возбуждения парижан, зная о нетерпении народа, будучи достаточно уверенными в настроении войск и являясь руководителями дезертировавших легионеров, они хотели организовать свои силы наилучшим образом и поэтому считали необходимым окружить себя гражданами, соединявшими с любовью к демократии опытность в военных делах. 11 флореаля, в послеобеденное время, в Тайную директорию были вызваны Фион, Жермен, Россиньоль, Массар и Гризель, — все офицеры или генералы; Гризель был там принят, вследствие того влияния, которое, как думали, он имел на Гренелльский лагерь.
На этом собрании присутствовали Бабёф, Буонарроти, Дебон, Дартэ, Марешаль, Дидье и пятеро вышеназванных военных [34].
Тайная директория прежде всего ознакомила последних с целью своих работ, с тем, что уже было достигнуто, и с тем, что оставалось сделать; затем она сообщила им «Акт восстания» который они одобрили, и кончила приглашением принять участие в обсуждении тех мер, которые следовало принять для обеспечения победы народа.
Было решено, что Тайная директория, сохраняя за собой составление всех планов и верховное руководство движением, поручает подготовку нападения и защиты Военному комитету и передает ему сведения и планы, имеющие отношение к его задаче.
Вышеназванные пятеро военных были назначены членами этого нового Комитета, первое заседание которого должно было состояться на следующий день у Рейса, на улице Мон-Блан. На данном общем собрании Жермен выказал себя пламенным демократом, Массар не изменил настроению, проявленному им уже у Амара, Гризель прекрасно играл роль республиканца, Фион и Россиньоль, приветствуя взгляды Тайной директории, высказывали однако сожаление по поводу отсутствия некоторых исключенных из Конвента монтаньяров.
Вскоре после этого собрания, конспиративная квартира Бабёфа и заседания Тайной директории были перенесены в предместье Монмартр, в дом Урсель, где также скрывался редактор «Народного просветителя», который, уже отчасти зная о заговоре, принимал тогда некоторое участие в работах, связанных с заговором.
Жермен был единственным лицом, через которое Военный комитет сносился с Тайной директорией. Этот Комитет, перенесенный через несколько дней из дома Рейса к Клерэ, близ хлебного рынка, быстро разобрался в порученном ему деле и 15 числа доложил Тайной директории о результатах своего рассмотрения.
Из многочисленных предложений, получаемых заговорщиками со всех сторон, два привлекли особенно их внимание.
Одно предлагало им обратиться при низвержении правительства к прямому содействию роялистов, также бывших его врагами: их надежды были бы затем разрушены сообщением им истинной цели восстания. Это предложение было отвергнуто, так как решили, что слишком опасно дать вначале оружие в руки тех, с кем потом придется бороться; кроме того, все чувствовали, что самого их присутствия в рядах повстанцев было бы достаточно для того, чтобы обескуражить республиканцев и уничтожить в них доверие, оказываемое ими планам Тайной директорий.
Второе предложение заключалось в том, что два офицера из полицейского легиона [35] соглашались убить в ту же ночь членов Директории: один из них с отрядом солдат-патриотов находился в ее охране; они просили дать им в подмогу отряд демократов и таким образом начать восстание; чтобы облегчить выполнение этого проекта, они сообщали свой пароль. Это предложение также было отвергнуто — из того соображения, что можно за что-либо браться только при одновременном действии всех мер, что сделает победу почти несомненной.
Собственно говоря, главные приготовления уже были сделаны: законопроект подвигался с каждым днем; активные патриоты были известны и сгруппированы; «Акт восстания» и знамена, под которые должен был собраться народ, были уже изготовлены и розданы агентам; нетерпение народа дошло до крайних пределов.
Но, кроме того, что Военный комитет не высказался еще о способах поднять народное движение повсюду и одновременно, у Тайной директории не было еще денег, нужных для содержания нескольких очень полезных делу людей, не имеющих средств к существованию, и она не могла обеспечить себя порохом, которым было важно снабдить повстанцев.
Недостаток в деньгах является, быть может, наиболее характерной чертой нашего заговора; любовь к богатству считалась заговорщиками преступлением, и Тайная директория всегда старалась добывать сборами с патриотов только самое необходимое для печатания своих сочинений и для поддержки неимущих демократов, услугами которых она пользовалась. Однако такого рода средства были необходимы: то для подкупа некоторых агентов тирании, то для предоставления демократам возможности привлечь и образумить сбитых с толку солдат.
Некоторые шаги к получению средств были сделаны, но наиболее крупной суммой, имевшейся в распоряжении Тайной директории, были 240 франков звонкой монетой, посланные министром одной союзной республики; они были захвачены полицейскими агентами, вошедшими 21 флореаля на место собраний заговорщиков.
Как трудно делать добро только теми средствами, которые одобряются разумом! Сколь многого стоит строгому республиканцу отступить от тех обязанностей, которые диктуются ему разумом, и пользоваться людьми, не признающими их, — и все это для того, чтобы не видеть поражения своих попыток и чтобы не быть свидетелем новых несчастий!
Жермен не замедлил заметить, что Россиньоль и Фион не искренно соглашались с образом действий Тайной директории; сильно привязанные к депутатам-монтаньярам, они с огорчением видели, что те не входят в заговор; вскоре эта мысль окончательно завладела ими и дала повод сомневаться в их преданности, если она не будет принята.
Монтаньяры, о которых здесь идет речь, были членами Конвента, исключенными после 9 термидора; они объединились в Комитет с намерением восстановить конституцию 1793 года, и Тайная директория нашла нужным пресечь их деятельность.
В глазах Фиона и Россиньоля мотивы, заставившие отстранить этих монтаньяров, не имели никакого веса; и они казались убежденными, что появление этих бывших законодателей произведет магическое действие, сгладит различия в мнениях республиканцев, поведет пропаганду восстания быстрее и победит все сопротивления в департаментах.
Многие граждане разделяли это мнение; но если бы даже Фион и Россиньоль оставались без подражателей, предложения, сделанные ими, и услуги, ожидаемые от них, особенно благодаря тому влиянию, которое Россиньоль [36] имел на жителей предместья Антуан, заставляли Тайную директорию очень считаться с их взглядами.
В то время Тайная директория получила извещение, что Комитет монтаньяров, в который был принят Робер Линде [XXXII], рассчитывает, не теряя из виду цели своего сформирования, осуществить ее при помощи движения подготовленного демократами; он надеялся завладеть этим движением, введя своих членов в повстанческую среду и представив их народу как его единственных представителей.
С другой стороны, Друэ, известный своей преданностью и своим мужеством, знал планы Бабёфа, был близок к Дартэ и также желал революции в пользу равенства; Тайная директория рассчитывала сделать его популярность рычагом восстания. Но Друэ не был чужд работе монтаньяров, своих бывших коллег, и, казалось, склонялся к соединению двух заговоров в один.
Наконец Жермен довел смущение Тайной директории до апогея; он проявил живейшее беспокойство относительно намерений Фиона и Россиньоля и казался встревоженным препятствиями, возникшими благодаря честолюбию монтаньяров; их намерения были ему сообщены Рикором и Леньело, одновременно сделавшими ему формально предложение объединиться.
Дебон, всегда принимавший деятельное участие в работах Тайной директории, не мог хладнокровно слышать предложения вступить в союз с этими монтаньярами, которых он обвинял в бедствиях, тяготевших над Францией.
Невозможность каким бы то ни было образом заставить этих монтаньяров содействовать восстановлению общественного дела казалась ему настолько очевидной, что он склонялся к мысли, что даже полнейшее бездействие лучше предлагаемого соединения. Эта мысль об отказе от заговора не понравилась Тайной директории, и один из ее членов был настолько взволнован ею, что вышел из себя до того, что обвинил Дебона в трусости. Последовавшая затем ссора была вскоре улажена, но мнение, породившее ее, глубоко врезалось в умы заговорщиков; больше чем, когда-либо они почувствовали, какая им нужна осторожность, чтобы не пожертвовать лучшими демократами без всякой пользы для народа и даже в ущерб ему.
Никто не обманывался насчет того, что соединение с монтаньярами поведет к положению, менее благоприятному для реформы, чем то имелось в виду; но их смелость и особенно взгляды Фиона и Россиньоля казались препятствиями, способными затормозить колеса заговора.
Ошибки монтаньяров и вызванные ими ужасные бедствия то и дело приходили на ум заговорщикам, и им было ясно, что нельзя ожидать от ничем не связанных побуждений этих экс-членов Конвента столь желанного установления неизменного равенства.
Оставаться в заговоре, отказавшись от равенства, значило бы признать свою непоследовательность и честолюбие, а порвать нити заговора в тот момент, когда все обещало скорый успех, значило стать преступниками в глазах патриотов и будущих поколений: итак, надо было, остаться при первоначальном решении и извлечь из обстоятельств наибольшую пользу для дела.
После долгих и горячих прений, Тайная директория приняла предлагаемое соединение и в то же время решила принять большие предосторожности, чтобы сдерживать честолюбие монтаньяров и чтобы их заставить содействовать исполнению ее намерений.
Согласно объяснению, данному вместе с согласием на это соединение, Тайная директория бралась восстановить Национальный конвент, т.е. ту часть этого органа, которая рассматривалась Амаром как единственно законная и существующая по праву; если бы это было сделано без всякого видоизменения, Франция была бы предоставлена произволу тех, кому бросались столь важные обвинения.
Во избежание такого большого несчастий, Тайная директория решила, что созыв Конвента будет иметь место лишь постольку, поскольку монтаньяры предварительно согласятся:
1. Добавить к Национальному конвенту, составленному исключительно из изгнанных депутатов, по одному демократу от департамента, назначенному повстанцами по представлению Тайной директории;
2. Заставить исполнить без сокращений и сейчас же положение статьи 18 «Акта восстания».
3. Подчиниться декретам, которые будут даны парижским народом в день восстания.
Как только это решение было принято, Жермен получил полномочие привести на следующий день одного члена Комитета монтаньяров в Тайную директорию, перенесенную тотчас же к Тиссо, на улице Гранд-Трюандри, где некоторые из заседаний велись и раньше.
Утром 15 флореаля Жермен привез в Тайную директорию Рикора, посланного Комитетом монтаньяров. Он был принят речью, которая ознакамливала его с положением дел, с мотивами, заставлявшими устранять даже всякую мысль о соединении с его доверителями, а также с мотивами, побудившими затем принять это соединение.
Затем депутату монтаньяров было предложено прочесть «Акт восстания», и тотчас же завязался спор о тех необходимых изменениях, которые следовало сделать в пункте, касающемся временной власти.
Соглашение относительно призвания к верховной власти исключенных членов национального Конвента было достигнуто легко, но уполномоченному дали в то же время понять, что всякие сношения будут прерваны, если монтаньяры не дадут безусловной гарантии своего сочувствия народу. С ним говорили не церемонясь и без уверток и объявили, что есть сомнения относительно его доверителей, которым делались тяжелые упреки.
Рикор был не в состоянии оправдать всех своих собратьев, между которыми находились, как он говорил, и такие, которые не заслуживали осуждения народа. Ему были изложены три вышеприведенные условия, к которым заодно прибавили:
1. Прекращение всех законов и всех постановлений, изданных после 9 термидора II года;
2. Изгнание всех вернувшихся эмигрантов.
Рикор согласился на все; не хватало только утверждения его коллег. На следующий день он явился объявить об их отказе.
По мысли Комитета монтаньяров, непосредственным и единственным следствием восстания должно было быть восстановление в должности около шестидесяти исключенных монтаньяров, к которым следовало слепо обращаться за всеми последующими указаниями.
Присоединение по одному депутату от департамента было отвергнуто монтаньярами как покушение на суверенитет нации, единственными носителями которого они считали самих себя. Приказания, которые они должны были получать от повстанцев, также являлось в их глазах захватом прав французского народа, представлять который надлежало только им одним. Они соглашались передать народу квартиры и имущество, обещанное ему «Актом восстания», но они видели в этом благоразумную уступку чувству великодушия, но никак не исполнение приказания и не выражение права. Наконец, они предлагали членам Тайной директории назначить их в Исполнительный совет, который они предполагали учредить.
Без сомнения, небезынтересно прочесть теперь ответ, данный уполномоченному монтаньяров; вот что он гласил:
«Содействуя временному восстановлению части Конвента, мы предполагаем служить только народу. Полное торжество равенства будет для нас единственной наградой, на которую мы надеемся. Не щадя своей жизни, мы будем бороться за возвращение народу всей полноты его прав, но мы не понимаем, как можно считать себя великодушными по отношению ко всеобщему повелителю, если вы действительно хотите работать с нами в том великом деле, которым мы заняты, остерегайтесь делать такие предложения, от которых ваши намерения становятся подозрительными.
Многие из наших коллег обманули доверие народа, но мы были бы достойны порицания бесконечно более их, если бы мы согласились снова предать народ в жертву их страстям и их слабостям. Совершенно непонятно, как это, чтобы восстановить суверенитет народа, надо употребить средства, погубившие этот суверенитет. Нация обязательно передаст право принять необходимые временные меры тем лицам, от которых она ожидает свержения тирании.
Мы желаем уничтожить одно деспотическое правление, но для того, чтобы заменить его другим. Прощать ошибки похвально, но было бы безумием снова вверить судьбы отечества тем, чьи ошибки его погубили.
Лучше погибнуть от руки тех патриотов, которые в негодовании на свою бездеятельность смогут обвинить нас в трусости и измене, и лучше погибнуть от руки правительства, если оно, наконец, узнает о наших замыслах, чем бросить народ на произвол тех, кто 9 термидора убил лучших его друзей и кто после этого трусливо допускал преследование республиканцев и разрушение демократического здания».
Удаляясь с этими словами, Рикор заявил, что он сообщит Тайной директории окончательное решение своих доверителей.
Он сдержал свое обещание: вечером 18 флореаля Дартэ доложил Тайной директории, что на собрании, на котором он присутствовал, Комитет монтаньяров, после горячих споров, согласился на присоединение по одному депутату от департамента, а также на предложения, благоприятные для угнетаемого класса, и на исполнение того декрета, который предполагалось испросить у восставшего парижского населения. В то же время Дартэ рассказал, что возражения, о которых говорил Рикор, были успешно опровергнуты Амаром, а особенно Робер Линде, который, опровергнув недоверчивое отношение Тайной директории, долго говорил о необходимости придать революции действительно народный характер, без чего она является только игрой партий. Это известие было тотчас же сообщено агентам, и с тех пор все думали только о том, как бы ускорить развязку заговора.
Во время переговоров между Комитетом монтаньяров и Тайной директорией сношения последней с Военным комитетом стали очень частыми. Было достигнуто соглашение:
— в том, что восстание произойдет днем;
— что генералы поведут народ на врагов, повинуясь приказам Тайной директории;
— что повстанцы будут распределены по районам и подразделены по секциям;
— что районами будут руководить начальники, а секциями — помощники начальников;
— что всякое повиновение существующим теперь властям будет отменено, и что всякий поступок такого рода будет тотчас же караться смертью.
Чтобы лучше сговориться, а также, чтобы внушить главным руководителям полное доверие к только что заключенному союзу и чтобы согласовать все предстоящие меры, на вечер 19 числа было назначено общее собрание Тайной директории и обоих Комитетов у Друэ, близ площади Пик.
Вместе со столькими мужественными защитниками прав человечества находился презренный лицемер, который, желая погубить то дело, которому они были преданы, коварно заимствовал у них их воззрения и язык, этим изменником был Жорж Гризель.
Может быть, в намерении проложить себе путь к карьере (всякая надежда на которую у него отпала, после ознакомления с планами заговорщиков), а может быть из желания непосредственно послужить тирании, Гризель постарался внушить демократам доверие.
Побудив Дартэ передать ему инструкцию, предназначенную для военных агентов, он пустил в ход все усилия для поддержки составившегося о нем благоприятного мнения. Допущенный затем на одно из собраний Тайной директории и назначенный членом Военного комитета, Гризель выказал себя демократом, наиболее крайним и наиболее нетерпеливым; он хотел все знать и задумал ни более, ни менее как одним ударом освободить тиранию от всех друзей равенства и открыть ей все замыслы демократии.
Узнав, наконец, имена главных заговорщиков и часть их плана, он 15 флореаля донес на них правительству, обещаясь выдать их вместе с документами заговора.
С тех пор Гризель добавлял каждый день по новой измене; постоянно работая в Военном комитете, он торопил своих доверчивых товарищей, сглаживал все затруднения, подсказывал новые мероприятия и никогда не забывал поддерживать мужество окружающих преувеличенными описаниями преданности Гренелльского лагеря демократическим идеям.
Благодаря сведениям, переданным Гризелем, 18 числа был разослан приказ захватить заговорщиков на собрании, которое, как предполагалось, должно было иметь место у Рикора; но там никого не нашли, и тогда были принятое новые меры к тому, чтобы на следующий день окружить квартиру Друэ, где, по сведениям изменника, должны были собраться заговорщики.
Действительно это собрание длилось с восьми с половиной часов до без четверти одиннадцати; на нем присутствовали Бабёф, Буонарроти, Дартэ, Дидье, Фион, Массар, Россиньоль, Робер Линде, Друэ, Рикор, Леньело и Жавог; Гризель тоже отправился туда. Изменник! Он продавал тирании своих товарищей; он ждал их палачей, а сам целовал их, он приветствовал их и, не краснея, расточал им уверения в самой искренней дружбе.
Заговорщики, собравшиеся у Друэ, чувствовали себя в полнейшей безопасности; пылкость их чувств и святость их дела заглушали всякое недоверие; уверенное поведение Гризеля и его красноречие устраняли от него всякое подозрение.
Тайная директория изложила через одного из своих членов мотивы, побудившие ее стать в центре деятельности демократов против новой тирании. «Вспомните ваши клятвы, — говорил заговорщикам оратор, — вспомните бедствия, вызванные забвением тех принципов, которые вы клялись закрепить вашей кровью. Настало время сдержать ваши обязательства; надо сражаться! Торжество благороднейшего дела, свобода французского народа, доверие, которое он вам выражает, ярость его врагов и ваша собственная безопасность — все требует от вас этой обязанности.
Никогда не было заговора более законного; дело не в том, чтобы избрать новых повелителей; ни один из нас не стремится к богатству или власти; это изменники заставляют нас взяться за оружие только во имя права на существование, во имя свободы и ради счастья наших сограждан; тайно набранная нами армия освободителей ждет нашего сигнала, чтобы ринуться на эту кучку тиранов, угнетающих народ.
Все до сих пор было как в столбняке. После бесполезной победы 13 вандемьера, аристократия не встречала больше никаких препятствий; множество отчаявшихся в свободе демократов заключили мировую с отвратительными олигархами, упившимися кровью ваших друзей.
С нашим призывом возродилась надежда, и появилась былая энергия; теряющий терпение народ уже громко требует сигнала к бою, — это вызвано неутомимым усердием стольких мужественных республиканцев.
Все благонамеренные нам известны; злые трепещут от страха. В назначенный вами день то оружие, которое тирания тщетно старается у вас отнять, окажется в руках наших братьев. Вы пожелали, чтобы подготовляемая нами революция была революцией до конца, и чтобы народу не приходилось больше довольствоваться отвлеченной свободой и смехотворным равенством.
Фактическая и законная свобода, вот что должно отличать ваше возвышенное дело от всех предшествующих.
Все затруднения побеждены; любовь к отечеству объединила нас. Условия, подписанные бывшими представителями нации, и единогласно принятые положения “Акта восстания” возвестят и обеспечат народу справедливость и полезность этого восстания.
Время не терпит; народное нетерпение дошло до крайних пределов; не будем же дальнейшим промедлением рисковать потерей случая, который, может быть, нам больше не представится.
Мы просим вас:
Добавить к принятым нами мерам то, что вы найдете необходимым.
Назначить время восстания.
Мы или погибнем в бою или закончим столь долгую, столь кровавую революцию победой и равенством».
Робер Линде, указав на правоту восстания, высказался за созыв Конвента и долго настаивал на необходимости придать грядущей революции путем проведения полнейшего равенства совсем особенный и совершенно народный характер.
«Что касается меня, — сказал Гризель, — то я ручаюсь за моих бравых товарищей из Гренелльского лагеря; и, чтобы показать вам, насколько близко к сердцу я принимаю торжество святого равенства, я вам скажу, что я нашел способ вырвать у моего дяди аристократа сумму в 10 000 ливров, которую я предназначаю для приобретения восставшим солдатам съестных припасов».
И, вот новый «Акт восстания» был вторично утвержден членами Конвента, которые обещали отправиться в день восстания со своими товарищами на место, указанное Тайной директорией, чтобы восстановить Конвент и искренно содействовать осуществлению утвержденных мероприятий и декретов, которые будут даны восставшим народом.
Массар от имени Военного комитета дал отчет об основных пунктах того плана нападения, который казался ему наиболее отвечающим видам Тайной директории. По мнению Комитета, двенадцать районов Парижа, объединенные в три дивизиона, должны были направиться под предводительством генералов на Законодательный корпус, на Исполнительную директорию и на главный штаб внутренней армии; передовые взводы должны были быть сформированы из наиболее горячих демократов; общее нетерпение достигло таких размеров, что казалось нетрудным поднять рабочих одним лишь призывом революционных агентов и деятельных друзей равенства. Он добавлял, что, чтобы высказаться относительно срока восстания, Комитету необходимо получить некоторые новые данные о количестве демократов и о способностях некоторых из них, а также о местах расположения армий и того снаряжения, которым надо, было запастись перед началом действий.
Собрание постановило:
1. Что Тайная директория ускорит развязку заговора.
2. Что она даст своим агентам инструкции, соответствующие планам Военного комитета.
3. Что два дня спустя она соберется, чтобы заслушать последнее донесение о положении вещей и чтобы назначить день восстания.
Едва это собрание успело разойтись, как в квартиру Друэ насильно и вопреки всем законам [37] вошел полицейский начальник с отрядом пехоты и кавалерии; он надеялся захватить здесь всех заговорщиков, но нашел только Друэ и Дартэ; арестовать их ему показалось неосторожным. Таким образом, плохо обдуманный или плохо отданный приказ привел к временной неудаче черных замыслов правящей тирании.
Однако это событие вместо того, чтобы внушить заговорщикам недоверие, только увеличило их беспечность. Гризель, уже сумевший убедить их в своей благонадежности, рассеял их тревогу и доказал, что всякие новые предосторожности излишни.
Сначала Тайная директория приписала угрожавшую ей опасность измене и при расследовании, которое она поторопилась произвести для обнаружения виновника, она на мгновение остановила свои подозрения на одном из самых верных друзей народного дела.
На собрании, имевшем место у Друэ, не было Жермена, и это отсутствие, на которое он осудил себя вследствие уже начавшихся преследований его, бросило на него некоторую тень недоверия; но память об его честности, об его всегдашнем поведении, об его самопожертвовании и искренности вскоре рассеяла это недоверие. Всякие дальнейшие сомнения были уничтожены рассуждением, внушенным Дартэ тем же Гризелем. Он говорил: «Если бы среди заговорщиков был изменник, то он одновременно повел бы полицию и к Друэ, где мы были вчера вечером, и туда, где мы собираемся каждое 11 число, потому что там находятся все документы [38], а раз этого не было, следовательно измены нет, и поведение полиции является следствием возникших у нее подозрений; оно — результат той чрезвычайной бдительности, которую она вменяет себе в обязанность». Этим вся тревога была рассеяна, и Тайная директория сочла бесполезным принимать какую-либо из тех предосторожностей, благодаря которым было бы легко избежать несчастий, вскоре обрушившиеся на нее.
Во исполнение приказаний Тайной директории, 20 вечером произошло новое собрание, на которое явились Дартэ, Дидье, Жермен, Фион, Массар, Россиньоль, Гризель и все районные агенты. Это собрание, имевшее место у Массара, ставило своей задачей посоветоваться с каждым из вышеназванных граждан, опытность которых была общеизвестной, о способах, наиболее пригодных для повсеместного и одновременного поднятия восстания и для обеспечения его успеха; кроме того, оно имело целью узнать от каждого революционного агента, каков в точности его запас людей, оружия и снаряжения, и насколько велико воодушевление.
Клод Фике, агент 6-го района, подал мысль забаррикадировать предместье Антуан, чтобы взять под прикрытие не повинующиеся начальству войска, расквартированные в Венсенне, когда они будут настроены благоприятно, или же чтобы помешать им проникнуть в город, если у них будут враждебные намерения.
Пари, агент 7-го района, изложил план нападения, предложенный одним из генералов, посоветоваться с которым ему было поручено Тайной директорией; он рассказал, каким образом легко можно арестовать Исполнительною директорию, и предложил обеспечить за собою подземные ходы Люксембурга [XXXIII]: благодаря им члены Исполнительной директории могли бы избегнуть правосудия.
Казен, агент 3-го района, советовал обеспечить лодочным мостом сообщение между предместьями Антуан и Марсо и с самого начала захватить вышки Монмартра, чтобы или громить оттуда аристократов, которые посмеют сопротивляться, или чтобы соединиться там в случае неуспеха.
Бодсон, агент 11-го района, выражал желание, чтобы восстание произошло в тот день, когда праздник декады будет совпадать с воскресением; таким образом было бы удобнее собрать рабочих, еще привязанных к христианским обрядам, а также лиц, отказавшихся от них [XXXIV]. Он предложил воспользоваться услугами женщин и детей, чтобы прорвать ряды солдат и увлечь их к соединению с народом.
Что касается общественного настроения, то революционные агенты повторили то, что они уже сообщали Тайной директории; они говорили, что нетерпение дошло до крайних пределов и является всеобщим, и что падение тирании несомненно, если только солдаты не решатся пойти на народ: в этом случае они рассчитывали на численность и мужество демократов и на умело доставленный военный распорядок.
Однако данные агентами сведения показались Военному комитету недостаточными, он хотел большей точности и желал, чтобы физиономия тех граждан, которым предстояло сыграть в восстании крупную роль, была настолько выяснена, чтобы Тайной директории не случилось ошибиться относительно их намерений.
Новые донесения должны были быть переданы Массару и сообщены им общему собранию, назначенному на утро следующего дня у Дюфор в предместье Луассоньер.
Между тем как все возрастающее волнение вообще заставляло предсказывать близкий взрыв, Тайная директория негласно исчисляла собранные ею силы, комбинировала те побуждения, которые следовало им внушить, и обдумывала планы, при помощи которых она предполагала достигнуть великой цели революции, т.е. равного распределения труда и имущества.
Оглядевшись, она видела себя во главе армии, составленной из большого числа горячих друзей революции, объединенных, благодаря ее стараниям, вокруг одной общей цели и горящих нетерпением померяться силами с тиранией; из лиц, бывших у власти до 9 термидора; из парижских артиллеристов, известных своим демократическим настроением; из отставленных от должности офицеров; из провинциальных патриотов, призванных в Париж Тайной директорией или явившихся туда, чтобы избежать преследований; из военных, арестованных за гражданские добродетели или за неповиновение начальству; из гренадеров Законодательного корпуса, почти изо всего полицейского легиона и изо всего корпуса инвалидов [39].
Рядом с картиной собственных сил пред её глазами находилась картина сил, которые ей могла противопоставить тирания: Тайная директория знала, что вооруженные отряды, хотя бы и слабые, будут в состоянии заградить путь народного движения, и что роялисты, вероятно, возьмутся защищать ненавистное им правительство, чтобы не испытать равенства, внушавшего им еще большую ненависть; она также знала, что большинству богачей, командовавших исключительно национальной гвардией, будет тяжело видеть победу демократии; и ей было не безызвестно, что знать имеет оружие, и что правительство может снабдить таковым и других.
С другой стороны, заговорщики имели в своем распоряжении оружие и снаряжение, которым были снабжены гренадеры Законодательного корпуса и легионеры; кроме того, они рассчитывали захватить оружие, хранившееся у ружейных мастеров в центрах секций, в Тюильри, у фельянов и у инвалидов [XXXV]; в этом им должны были помочь наиболее смелые граждане при содействии лиц, приставленных к охране магазинов. Вдобавок они рассчитывали на артиллерию преданного им Венсенcкого лагеря и надеялись, что войска присоединятся к народу, что внезапная вспышка среди массы населения поразит ужасом сторонников тирании и что народ найдет могущественного союзника в трусости, присущем любимцам фортуны, на которых правительство возлагало особенно большие надежды.
Для того ли, чтобы избежать справедливую ненависть народа, для того ли, чтобы содействовать заговорщикам, или же чтобы узнать их имена и затем погубить, но только член Директории Баррас имел 30 жерминаля продолжительный разговор с Жерменом, уполномоченным на это Тайной директорией; в этой беседе Баррас выпытывал у него о причинах проявляемого народом возбуждения; 20 флореаля вечером он предложил главным заговорщикам через Россиньоля и Луэля или стать со своим главным штабом во главе восстания, или сделаться заложником в предместье Антуан.
Тот, кто хотел бы объяснить эти факты к чести члена Директории Барраса, должен был бы также объяснить, почему он не предупредил о доносе, сделанном в Директорию 15 флореаля на лиц, которым он 20 числа, казалось, засвидетельствовал столько сочувствия и доверия [40].
Дав себе отчет в силах демократии в Париже, установив взгляды наиболее просвещенных патриотов и выслушав Военный комитет, Тайная директория сочла необходимым наметить тактику восстания, чтобы таким образом все усилия были единообразно направлены к одной и той же цели, и чтобы дело не потерпело крушения из-за недостатка осторожности.
Уже давно было признано преимущество начала восстания путем публичного извещения о том со стороны Инсуррекционного комитета; все должны были к нему примкнуть и следовать его указаниям.
Это извещение должно было выразиться в обнародовании «Акта восстания», принятого по соглашению с Комитетом монтаньяров.
В этом «Акте» так же, как и в тех, которые появились бы во время и после восстания, Тайная директория принимала название Инсуррекционного комитета общественного спасения, чтобы таким образом стать ближе к тем формам, под которыми равенство подготовлялось до 9 термидора, и чтобы избежать всякого сходства с формами, установленными аристократией.
Было принято постановление о разделении армии на три дивизиона. Ими должны были командовать три генерала, подчиненные главнокомандующему, который в свою очередь должен был подчиняться Инсуррекционному комитету; каждому дивизионному генералу подчинялись районные начальники, а этим последним начальники секций, сами подразделявшиеся по взводам.
Что касается генералов, то Комитет имел в виду Фиона, Жермена, Россиньоля и Массара. Назначенные тем же Комитетом начальники и взводные командиры должны были явиться, чтобы построить толпу в ряды, в то время, когда провозглашение «Акта восстания», набат, трубы и голос друзей свободы призовут народ к завоеванию своих прав.
Было важно, чтобы при каждой секции находились просвещенные демократы, обязанные объяснять народу содержание «Акта восстания» и показать ему всю справедливость и полезность этого «Акта».
Когда народная армия была бы таким образом сорганизована, следовало направить ее, пользуясь восстанием (которое надеялись сделать в рабочих классах всеобщим) на тиранию и противопоставить ее силам этой тирании.
Войска должны были двинуться к Законодательному корпусу, к Исполнительной директории, к главному штабу и к домам министров с целью поддержать республиканцев, которым поручалось арестовать узурпаторов.
Наиболее воинственные и наилучше вооруженные секции направились бы к складам оружия и припасов, а главным образом к Гренелльскому и Венсенскому лагерям, где было не больше восьми тысяч человек, которые считались готовыми присоединиться к народу. Чтобы ускорить это присоединение, предполагалось употребить сильное средство — язык убеждения; ораторы напомнили бы солдатам о преступлениях правительства и о воинском долге по отношению к отечеству; женщины раздавали бы им цветы и съестные припасы; инвалиды увлекали бы их за собой своим примером.
На случай неудачи были приняты меры к заграждению улиц и к тому, чтобы обливать войска потоками кипящей, смешанной с купоросом воды и осыпать их градом камней, черепицы, шифера и кирпичей.
Остальная народная армия должна была быть использована для охраны выходов из Парижа, для поддержки сообщения между различными частями народа, для содействия снабжению города, для недопущения каких-либо антинародных собраний, для задержки какой бы то ни было переписки аристократии, для пресечения всяких попыток к грабежу и вообще для исполнения приказаний инсуррекционной власти.
Непредвиденные события, подобные тем, которые вызвали прериальские бедствия [XXXVI], могли бы сделать сомнительным успех данного предприятия, если бы не были приняты меры к их предупреждению.
Из этих событий бесконечно опасным мог бы оказаться недостаток продовольствия, который помешал бы народу оставаться под ружьем все время, пока в том была надобность, поэтому Инсуррекционный комитет подумал о способах обильного снабжении провизией тех мест, где впоследствии мог собраться народ; с этой целью он постановил поместить с самого начала движения в каждой секции по три члена революционного комитета, действовавшего 9 термидора, и поручить им моментально доставлять повстанцам ту провизию, в которой у них будет надобность, захватывать продукты, сложенные во всех общественных и частных магазинах, а также сразу же оказывать первую помощь, обещанную несчастным.
Чтобы дать народу ясное представление о новой революции и поддержать его усердие, Инсуррекционный комитет предполагал опубликовать в течение восстания два постановления, в силу которых бедняки получали одежду на счет Республики и в тот же день вселялись в дома богачей, которым были бы оставлены только действительно необходимые им помещения.
Интересно сообщить, какое представление имел Инсуррекционный комитет о суде народа, которому он хотел предать главных виновников, т.е. членов обоих Советов и членов Исполнительной директории. Преступление было налицо, наказанием должна была быть смерть, — великий пример был необходим.
Однако было бы желательно, чтобы этот пример носил на себе печать строгого правосудия и глубокого чувства общественного блага. Было решено, что восставший народ выслушает подробный и персональный доклад об изменах, которых он был жертвой, и что ему будет предложено не преследовать тех из обвиняемых, которым можно простить их политические ошибки вследствие извинительности заблуждения, простого и демократического образа жизни, или какой-нибудь крупной услуги, оказанной ими равенству во время восстания. В Инсуррекционном комитете были и такие мнения, что осужденные должны погибнуть под развалинами своих дворцов, обломки которых напоминали бы грядущим поколениям о понесенном врагами равенства справедливом наказании.
Все способы нападения и защиты указывались тем районным агентам и генералам, которых Комитет готовился назначить.
Один очень щекотливый вопрос обдумывался в Инсуррекционном комитете особенно зрело. Речь шла о том, чтобы определить, какое участие будут принимать его члены в деятельности новой власти. Было решено говорить с народом без недомолвок и напрямик и почтить его суверенитет самым блестящим образом. Если бы Комитет счел необходимым для полного успеха восстания временно принять на себя всю полноту национальной власти, он не поколебался бы испросить ее. Но так как всякое учреждение такого рода было заранее отвергнуто, то оставалось только рассмотреть, удобно ли предлагать восставшему народу учредить малочисленный орган, обязанный внушать законодательные мероприятия новому Конвенту, декреты которого народ будет приводить в исполнение; или же, если это полезнее, предоставить эту важную заботу самому народу.
Каково бы ни было решение Инсуррекцнонного комитета, еще следовало дать себе отчет, не требуется ли для успеха новой революции, чтобы только его члены вошли в тот орган, о котором идет речь.
На этот счет ничего не было постановлено; я могу только сообщить те рассуждения, в которых Комитет сравнивал преимущества и неудобства различных проектов, которые он мог бы принять.
Сначала заметили, что превращение Инсуррекционного комитета в длительную власть, безусловно очень широкую, заставило бы заподозрить членов Инсуррекционного комитета в честолюбии и личной заинтересованности; было опасение, как бы подобные обвинения, благодаря легкости, с которой они получают доверие и распространяются, не затруднили бы деятельности членов Комитета так, что они не имели бы времени осуществить то благо, которое они поставили себе целью; спрашивалось, не достаточно ли присутствия заговорщиков в новом Конвенте, их братского единения и доверия, которым они пользуются, для того, чтобы сообщить законам дух данного дела, и для того, чтобы возвести на высшие должности граждан, достойных взять на себя власть.
С другой стороны, Инсуррекционный комитет видел мало людей, чистота принципов которых соединялась бы с мужеством, с твердостью и с умом, необходимыми для проведения этих принципов в жизнь.
Он чувствовал, насколько опасно отнять заботу об окончании дела у тех, кто имел смелость начать его, и опасался двуличия некоторых лиц, с которыми ему предстояло соперничать. После долгих колебаний наши заговорщики почти решились испросить у народа декрет, который вверял бы инициативу и исполнение законов исключительно им.
Многие проекты остались незаконченными, многие работы были прерваны изменой, предавшей мести аристократов тех, кого обстоятельства поставили во главе демократической партии, и рассказ об их заговоре мог бы здесь и окончиться, если бы не было необходимости для лучшего ознакомления с их намерениями пролить некоторый свет на их представление о состоянии, в котором находилась бы нация непосредственно после восстания, а также пролить свет на конечную цель, которую они преследовали, и на средства, которое они думали употребить для ее достижения.
Среди ужаса, который столь радикальная революция должна была внушить аристократам всех оттенков, и среди радости, которую столь демократические перемены должны были вызвать в многочисленном классе трудящихся и несчастных людей, предстояло создаться новому Конвенту [41], стремящемуся к прочному утверждению равенства, как благодаря соответствующим принципам почти всех своих членов, так и благодаря желанию окружавшего его народа.
Выполнением положений того «Акта», который должен был вызвать восстание, также ведал бы, хотя бы и временно, Инсуррекционный комитет, поддерживаемый должностными лицами, поставленными на свои посты революцией; по его слову множество бедняков были бы извлечены из своих лачуг и переселены в здоровые и удобные жилища; предполагалась раздача беднякам одежды и безвозмездное возвращение им вещей, заложенных в ломбардах.
В то же время велся бы заботливый надзор за обеспечением народа продовольствием; в подлежащих открытию собраниях граждане получали бы объяснение принципов новой революции; многочисленная народная армия сдерживала бы злоумышленников и облегчала бы выполнение всех действий, признаваемых необходимыми для укрепления новой системы.
Невозможно точно определить, какая сила понадобилась бы для всего этого; заговорщики хотели добиться своего какой угодно ценой и твердо решили или победить, или умереть под развалинами отечества.
За исключением случаев сопротивления, строгость должна была ограничиться наказанием вождей узурпации и арестом опасных людей, список которых был бы заранее составлен по приказанию Инсуррекционного комитета.
К приготовлениям, признанным необходимыми для низложения здания, выстроенного новой аристократией, следовало присовокупить такие меры, которые казались наиболее годными для распространения парижской революции по всей Республике и для установления в ней учреждений равенства и народного суверенитета.
С самого начала своего существования Инсуррекционный комитет сосредоточивал свое внимание на провинции и армии. Он повсюду распространял свои прокламации; повсюду демократы были знакомы с его планами и были готовы им содействовать. У одного из членов Комитета находилась обширная переписка, в которой были указаны места, где демократы сильны, а также люди, внушавшие наибольшее доверие; со всех сторон приходили известия, что революционеры отказываются от разделявших их различий во взглядах и единодушно присоединяются к партии чистого равенства.
Что касается армии, то Комитет знал, насколько комиссарам Конвента было трудно заглушать после 9 термидора то, что они называли духом анархии и неповиновения: ему было также небезызвестно, что конституция III года вызвала ропот целых армий; он был осведомлен и о том, что солдаты нетерпеливо переносит командование офицеров, восстановленных в своих должностях после 9 термидора, что среди начальства, частью находившегося с ним в переписке, встречается много лиц, еще сильно привязанных к принципам демократии [42]; кроме того, он имел основание рассчитывать на содействие нескольких членов Конвента, посланных Исполнительной директорией в армии Республики. После победы первой заботой повстанцев было бы примирить с собой народное мнение, всюду отдать власть в руки лиц, преданных принципам новой революции, и не дать времени хорошо известным врагам равенства организовать заговоры, к которым они не преминули бы обратиться.
С этой целью Комитет утвердил план воззвания к французам, первые строки которого писались одним из членов Комитета как раз в тот момент, когда он был захвачен приверженцами тирании [43]. Эта прокламация должна была провести перед глазами народа длинный ряд преступлений, гнусно оскорблявших равенство и права граждан; она должна была показать, что причины общественных бедствий еще не с корнем вырваны той революцией, которую они вызвали, и что они все заключаются в неравенстве и в пороках, порождаемых этим неравенством; она должна была указать нации на поведение парижского народа, как на образец, достойный подражания, громогласно призвать французов к равенству и торжественно взять на себя обязательство обеспечить его за ними через несколько месяцев спокойствия, мужества, терпения и повиновения.
Та же прокламация возвела бы в принцип законодательства декрет восставшего парижского населения и утвердила бы конституцию 1793 года как последнее выражение нового политического строя, причем она ввела бы в нее некоторые добавления и предварительное установление таких учреждений, без которых и наиболее народная конституция всегда будет телом без души и добычей ярости преступных партий.
Вот некоторые из основоположений, которые должны были войти в текст этой прокламации:
1. Непосредственное смещение всех гражданских и судебных властей и объявление вне закона всякого лица, которое осмелилось бы нести функции таковых;
2. Немедленное восстановление исполнительных комиссий в управлениях департаментов и дистриктов; восстановление муниципальных властей, революционных комитетов, мировых судов и уголовных судов, какими они были до 9 термидора II года;
3. Приказ всем гражданам, занимавшим в то время какие-либо должности в вышеназванных установлениях, тотчас же занять их вновь, исключая случаи законных препятствий;
4. Исключение с какой бы то ни было общественной должности, под страхом смертной казни, всякого лица, известного своим обогащением при несении каких-либо общественных обязанностей;
5. Опубликование «Акта восстания» по всей Республике;
6. Применение ко всей Республике параграфов 1, 2, 18 и 19 данного «Акта»;
7. Наложение печатей на все национальные кассы;
8. Уничтожение всех прямых налогов и пошлин, начиная с 1 вандемьера IV года, по отношению к гражданам, лично выполняющим земледельческие и ремесленные работы первой необходимости и имеющим только самое необходимое для себя и для своих семей;
9. Прогрессивное разложение на богачей всей совокупности выше обозначенных прямых налогов;
10. Сбор этих налогов натурой;
11. Плата натурой за аренду национальных имуществ;
12. Устройство общественных магазинов в каждой коммуне и больших военных магазинов в 20 верстах от границ, где стоят армии;
13. Предложение всем гражданам дать отечеству одежду для его защитников;
14. Приказ муниципальным властям наблюдать за тем, чтобы ни один участок земли не оставался необработанным;
15. Отнятие у помещиков в пользу народа тех земель, которые они пренебрегли обработать по обычаям данной местности;
16. Прекращение продажи национальных имуществ;
17. Немедленная отмена в пределах Республики всякой денежной оплаты труда;
18. Снабжение натурой тех общественных деятелей, неимение которыми самого необходимого будет доказано;
19. Такое же снабжение неимущих семей защитников родины и всех стариков и немощных бедняков;
20. Предложение богачам добровольно уступить властному требованию справедливости и уберечь отечество от междоусобий, а самих себя от целого ряда бедствий и ограничиться только самым необходимым, великодушно отдав народу свой избыток;
21. Забвение всех поступков и мнений, противоречивших равенству, по отношению к тем, кто в определенный срок доказал бы недопускающим сомнения образом свое искреннее возвращение к истине и отечеству;
22. Возвращение в тюрьмы, под страхом объявления вне закона, всех лиц, содержавшихся там еще 8 термидора II года, если они теперь не уступили увещеванию ограничить себя в пользу народа самым необходимым;
23. Отмена всех декретов, изданных после 9 термидора в пользу эмигрантов или лиц, обвиненных в эмиграции, а также в пользу бунтовщиков или их наследников;
24. Арест всякого лица, о котором известно, что он после 9 термидора совершал убийства республиканцев или подговаривал к таковым.
В этом было только начало великих реформ, задуманных Инсуррекционным комитетом; это было не что иное, как принудительный переход общественной власти в руки народа.
Рассчитывая сохранить после восстания полезное влияние при совещаниях, этот Комитет занялся планом немедленных подготовительных мероприятий к тому окончательному законодательству, к которому он хотел придти.
Я дам здесь о нем некоторое представление.
Немедленно во все департаменты и армии должны были отправиться главные комиссары, выбранные, но не из членов Конвента, снабженные самыми широкими полномочиями, обязанные побеждать все сопротивления силой республиканцев, уполномоченные обращаться в нужный момент к строгости или снисходительности, лишать должностей, предавать суду или награждать; прежде чем вступить в исполнение своих обязанностей, они должны были выявить свое имущественное положение; они отвечали за свое поведение перед специальным судом, учрежденным именно для того, чтобы получать отчет в их действиях и наказывать тех из них, кто забудет о цели своей миссии.
Чрезвычайно большое значение придавалось быстрому образованию при повстанческой власти нормального семинария; соблюдая определенные условия, провинциальные граждане поступали бы туда, чтобы почерпнуть принципы новой революции, проникнуться духом реформаторов, научиться, действуя на общественное мнение, руководить исполнением законов, которые должны были изменить облик нации.
Главным комиссарам поручалась важная задача просвещать и объединять республиканцев и в особенности побуждать их к сочувствию взглядам и настроению руководителей восстания; они должны были привязать к себе республиканцев благоразумием своих мероприятий, жаром своего усердия, своим бескорыстием и безупречным поведением.
Как истинные проповедники, они внесли бы свет равенства во все коммуны, а особенно в те народные клубы, которые они должны были открыть и от которых требовалось, чтобы их умонастроение предвосхищало преобразовательные акты законодателя.
В момент уничтожения Инсуррекционпого комитета на его рассмотрение было представлено пять проектов революционных декретов, а именно:
1. проект декрета о полиции,
2. — // — о войсках,
3. — // — о просвещении,
4. — // — о народном хозяйстве,
5. — // — о национальных празднествах.
Строгость декрета о полиции должна была устрашить и привести в замешательство тех, кто попытался бы воскресить события, залившие Республику кровью после 31 мая 1793 года. Такова была цель создания лагерей, всеобщего вооружения граждан и воссоздания национальной гвардии. Все незаинтересованные в полном успехе реформы должны были быть глубочайшим образом обессилены. Также каждый, кто не служил обществу полезным трудом, подлежал исключению из него.
Наконец, предполагалось облегчить выполнение общего плана самим содействием недовольных: защищая самих себя, они были бы вынуждены искать в нем единственный путь к своему спасению.
Декрет о войсках должен был привести к особого рода республиканскому обучению молодежи, не имеющей больше возможности пользоваться в училищах благами образования; в этом декрете среди многих других положений были следующие:
— всякий француз остается в армии на действительной службе с двадцати лет до двадцати пяти;
— никто не может быть в армии на командных должностях, не прослужив в течение ... [XXXVII] лет простым солдатом;
— в каждом корпусе подчиненные принимают участие в назначении своих периодически сменяемых начальников;
— денежная выдача жалованья войскам больше не существует;
— Республика ежедневно выдает военный паек всякому лицу, входящему в состав армии; она дает квартиру, одевает, дает освещение, отопление и стирку белья и одинаково содержит всех защитников родины;
— военный паек такой же, как и для лиц, занимающих гражданские должности;
— защитники отечества живут сообща, под руководством своих начальников и согласно правилам, которые будут установлены;
— мародерство запрещается; каждый защитник отечества обязуется принести своему начальству до выступления в поход все, что он сможет законно отнять у неприятеля;
— после сверхурочной работы выполнившие ее лица получают более обильную выдачу довольствия;
— неповиновение начальству карается смертью;
— такое же наказание постигает генералов и офицеров, виновных в воровстве, пьянстве, насилии, игре, пренебрежении к законам и в самоуправстве по отношению к своим подчиненным;
— в армиях будут установлены работы, учение и празднества;
— за выдающиеся поступки Республика присуждает награды;
— все граждане обучаются владеть оружием и проходят военный строй.
Декрет о просвещении должен был тотчас начать приводиться в исполнение по выше упоминавшемуся плану.
Действительно, ничего не приходилось жалеть для детей, которые, не имея еще установившихся привычек, были готовы воспринять все, что им хотели привить.
В этом вопросе все затруднения сводились к преодолению несочувствия ему в некоторых семьях и к подысканию достаточного количества людей, способных руководить школами в духе реформы.
Была надежда покончить с первым препятствием благодаря влиянию республиканцев, благодаря энтузиазму, который должна была пробудить пропаганда принципов равенства, благодаря непосредственному облегчению, которое эта мера должна была принести неимущим классам, и благодаря очевидности преимуществ, которые она должна была дать детям.
Что касается благонадежности, нравственности и способности тех лиц, которым предстояло вверить руководство школами, то рассчитывали заручиться ими с помощью нормального семинария, где следовало употребить необходимое для их подготовки время таким образом, чтобы они могли потом внушать народу новую систему и устраивать пункты, где собиралась бы молодежь. Добьемся того, говорил Инсуррекционный комитет, чтобы молодые люди и солдаты привязались к обычаям равенства, и тогда самое главное будет сделано; потому что через несколько лет эти молодые люди и эти солдаты образуют почти что всю нацию; однако, чтобы не сделать бесполезными добрые намерения, вложенные в них национальным образованием, мы не потерпим, чтобы, войдя в общество, они нашли в нем порядок, противоречащий результатам этого образования; пусть уничтожение духа собственности начнется тогда же, и пусть оно идет заодно с прогрессом молодежи и армии в образовании и в нравах равенства. Вот для чего предназначался Комитетом декрет о народном хозяйстве.
Этот декрет охватывал все части общественного управления; земледелие, ремесла, торговля, судоходство, финансы и общественные работы входили в его ведение и должны были получить от него новую жизнь.
Известно, что окончательной целью работ Комитета было установление полного и законченного коммунизма.
Однако Комитет очень остерегся бы ввести коммунизм по приказу на следующий день после своей победы и заставить несочувствующих ему принять в нем участие; всякое индивидуальное насилие, всякая перемена, не предписанная законом, были бы запрещены и наказаны.
Комитет полагал, что законодатель должен вести себя таким образом, чтобы, в конце концов, убедить весь народ в необходимости уничтожения собственности для выгоды и пользы самого народа.
Но каким образом обмануть стольких людей, испорченных праздностью, искусственными наслаждениями и тщеславием, как привести их к желанию простоты, которой они всегда оказывали такое горячее противодействие?
Комитет отвечал: устанавливая с помощью законов такой общественный порядок, при котором сохранившие свое имущество богачи не находили бы ни роскоши, ни удовольствий, ни почета. Устроим, прибавлял он, чтобы все трудящиеся пользовались, благодаря очень умеренному труду и не получая никакой заработной платы, честным и прочным довольством, и тогда скоро спадет повязка с глаз граждан, заблуждающихся вследствие предрассудков и рутины; тогда произойдет то, что собственники богатств и отличий будут вынуждены давать заработную плату, большую, чем удобное и даровое содержание, гарантируемое Республикой, и расходовать наибольшую часть своих доходов на обработку земли и на налоги; они больше не смогут пользоваться ни развлечениями, ни прислугой, будут подавлены тяжестью прогрессивного налога, устранены от дел, лишены всякого влияния, будут в презрении, образуя в государстве только подозрительный класс иностранцев, и или эмигрируют, покидая свое имущество, или поспешат закрепить своим собственным присоединением мирное и всеобщее установление общности имущества.
Соединимся, добавлял Инсуррекционный комитет, с мелкими собственниками, небогатыми торговцами, поденщиками, работниками, ремесленниками, всеми несчастными, кого наши порочные учреждения обрекают на жизнь, переполненную усталостью, лишениями и печалями; пусть они возродятся для человечества; пусть отечество немедленно обеспечит всем людям, посвящающим ему свои способности и свой труд, удобное существование, застрахованное от несчастных превратностей судьбы, существование, избавленное от опасений и забот, являющихся следствием права собственности в не меньшей степени, чем нужды; создадим отныне большую национальную коммуну, снабдим ее обширной территорией, включим в нее все недвижимое имущество, на котором нация или коммуны имеют право работать; дадим тем, кто вполне откажется в ее пользу от своей личности и от своего имущества, неотъемлемое право на все, что составляет всем доступное счастье; будем наблюдать за тем, чтобы это счастье было фактическим и наступило немедленно; воспрепятствуем резонерам колебать его софизмами и преувеличениями; заставим все виды власти действовать в духе равенства; примем в среду отечества всех, кто будет искренно стремиться в него; уничтожим все источники, в которых гордость могла бы еще почерпнуть средства показывать народу обманчивую пышность; сделаем золото более неприятным, чем песок и камни; смело нанесем первые удары и предоставим естественному желанию счастья и знания, поддерживаемому общественным энтузиазмом, последовательно закончить столь возвышенное дело.
Когда эта подготовительная работа была бы сделана, нация состояла бы только из лиц, примкнувших к коммунизму; но всё склоняло Инсуррекционный комитет к мысли, что коммунистический строй не замедлит слиться со всей нацией путем последовательного вхождения в него защитников отечества и путем инкорпорации имуществ умерших неучастников, а также путем благоприятного изменения общественного мнения; такое изменение должно было явиться неизбежным следствием подобной реформы. Скоро должен был наступить день, когда обязанность и принуждение смогут без всяких опасений уступить место увещеванию, примеру и силе необходимости; с тех пор слово «собственник» не замедлило бы стать для французов варваризмом.
Говоря о собраниях народа, мы упомянули о национальных празднествах и о принципах, которые Инсуррекционный комитет думал положить в основу организации этих собраний. Такой же дух царил и в революционном проекте, рассматривавшемся Комитетом незадолго до его уничтожения. Празднества должны были быть многочисленны и разнообразны, на каждый день отдыха приходился бы свой особый праздник. По мнению Комитета, для дела равенства было чрезвычайно важно, чтобы все время держать граждан в состоянии подъема, привязывать их к отечеству, внушая им любовь к своим церемониям, играм и развлечениям, устранять из досуга скуку и поддерживать чувство братства между всеми частями Республики путем их частого общения.
С точки зрения Комитета, проведение революций и полнота проявления народного суверенитета зависели от укрепления вышеназванных учреждений, и особенно тех из них, которые создавались декретом об экономическом положении страны.
Словом, тот день, когда народ стал бы действительно мирно наслаждаться равенством, был бы днем, когда он мог бы вполне пользоваться правом обсуждения законов, освященных конституцией 1793 года.
Много подробностей изгладилось из моей памяти; она сохранила воспоминание только о самых выдающихся сторонах и очень ясное представление о последовательном и единообразном развитии учреждений и конституции. Легко заметить, что и сам Инсуррекционный комитет не мог предвидеть все мероприятия, которые в силу обстоятельств могли стать необходимыми; также не мог он заранее определить время, когда задача преобразователей будет закончена.
Столько стараний, которым нельзя отказать в некоторой доблести, оказались напрасными, благодаря измене Гризеля; пользуясь хитростью этого изменника, угнетатели Франции велели арестовать утром 21 флореаля IV года большинство главарей заговора; Бабёф и Буонарроти были захвачены с некоторыми бумагами в комнате, где они провели ночь, обдумывая и подготовляя восстание и реформу; Дартэ, Жермен, Дидье, Друэ и многие другие были в то же время арестованы у Дюфура, куда они собрались, чтобы назначить день народного восстания. Вооруженная внутренняя армия содействовала походу на демократию, а парижское население, которое уверили, что арестованы воры, оставалось пассивным зрителем лишения свободы тех самых заговорщиков, цепи которых оно спустя некоторое время безуспешно пыталось разбить.
Тюремное заключение заговорщиков и весть о заговоре вызвали разнообразные чувства: огорчение и подавленность у угнетаемых, трепет ужаса и свирепой радости среди высших классов, требовавших смерти бабувистов. Многочисленные захваченные у Бабёфа документы показали аристократии способ уничтожения опасной ей партии.
Тюрьмы Аббэ наполнились в кратчайший срок обвиняемыми, ввергаемыми туда при знаках живейшего интереса, расточаемого им народом и солдатами. В течение нескольких дней улицы, прилегающие к этой тюрьме, были запружены народом; но вскоре подсудимых разъединили, и лица, казавшиеся наиболее скомпрометированными, были тайно помещены в башни Тампля. Большинство их готовилось погибнуть от руки военной комиссии; Друэ спас их от этого.
По конституции III года депутат мог подвергнуться суду только по обвинению Законодательного корпуса, и при том только высшему суду, члены которого назначались избирательными собраниями департаментов. Требовалось много месяцев для образования такого чрезвычайного трибунала, который к тому же не мог заседать в городе, являющемся резиденцией правительства.
Подсудимый Друэ был депутатом, и приходилось отложить суд над остальными впредь до выяснения, не привлечет ли он, в качестве обвиняемого, к своему трибуналу тех лиц, которые казались его сообщниками.
Два дня спустя после своего ареста, Бабеф обратился в Исполнительную директорию со следующим письмом, которое приводим здесь полностью:
«Париж, 23 флореаля IV республиканского года.
Г. Бабёф
Исполнительной директории
Сочли ли бы вы, граждане члены Директории, ниже вашего достоинства разговаривать со мной, как равные с равным? Вы увидели теперь, центром какого обширного союза я являюсь! Вы увидели, что моя партия может прекрасно поколебать вашу. Вы увидели, какие огромные разветвления отходят от нее. Я больше, чем уверен, что это зрелище заставило вас затрепетать.
В ваших ли интересах и в интересах ли родины разглашать об открытом вами заговоре? Не думаю этого. Я приведу мотивы, ставящие мое мнение вне всяких подозрений.
Что произошло бы, если бы это дело получило гласность? Какую полную славы роль играл бы я в нем: со всем величием души, со всей энергией, которую вы во мне знаете, я показал бы святость заговора, причастности к которому в качестве члена я никогда не отрицал.
Сходя с того трусливого, испещренного запирательствами пути, которым рядовой обвиняемый пользуется в целях своего оправдания, я нашел бы смелость развить великие идеи и защищать пред судом вечные права народа со всем успехом, который дается глубоким проникновением в красоту, этой темы; я нашел бы смелость, говорю я, показать, что этот процесс — не дело правосудия, а процесс сильного против слабого, угнетателей против угнетенных и их великодушных защитников. Меня могли бы осудить на ссылку, на смерть, но мой приговор тотчас был бы признан приговором могущественного преступника над бессильной добродетелью: мой эшафот почетно стоял бы рядом с эшафотом Барнвельта и Сиднея [XXXVIII]. Неужели хотят воздвигнуть мне алтарь, — и уже на следующий день после казни, рядом с жертвенниками, пред которыми теперь благоговейно вспоминаются, как великие мученики, Робеспьеры и Гужоны [XXXIX]?
Это не тот путь, который упрочивает правительства и правителей.
Вы увидели, граждане члены Директории, что, даже держа меня в своих руках, у вас все же нет ничего; я не представляю собой всего заговора, далеко нет: я только одно звено в той длинной цепи, из которой он слагается.
Так же, как меня, вы должны опасаться остальных ее частей: однако вы имеете доказательство всего того участия, которое они принимают во мне; нанося удар мне, вы нанесли бы удар и им и вызвали бы их гнев.
Вы вызвали бы гнев, говорю я, всей демократии французской республики, а вы знаете, что это не столь маловажно, как вы могли думать раньше: признайте, что она сильна не только в Париже; посмотрите: нет в провинции места, где она не была бы могущественна.
Вы судили бы о ней правильнее, если бы ваши клевреты захватили огромную переписку, позволившую создать тот список лиц, из которого вы увидели только несколько отрывков. Можно сколько угодно желать погасить священный огонь: он горит и будет гореть; чем больше кажется он иногда уничтоженным, тем более сильным и опасным угрожает стать его пламя при внезапном пробуждении.
Попытаетесь ли вы освободиться целиком от этой опасной секты санкюлотов, которая еще не пожелала признать себя побежденной? Сначала надо было бы предположить возможность этого; но к чему пришли бы вы затем? Ваше положение вовсе не похоже на то, которое позволило после смерти Кромвеля отправить в ссылку несколько тысяч английских республиканцев.
Карл II был королем, а вы, что бы там ни говорили, вы им еще не являетесь; для поддержки вам нужна партия; отбросьте партию патриотов, и вы очутитесь лицом к лицу с одним лишь роялизмом. Как вы думаете, какую дорогу показал бы он вам, если бы вы остались одни против него?
Но, скажете вы, патриоты так же для нас опасны, как и роялисты, а может быть и еще больше. Вы ошибаетесь; вникните в дух дела патриотов, вы не заметите в нем, чтобы они желали вашей смерти, и это клевета, что они об этом писали.
Я могу вам сказать, что смерти они не желали; они не хотели пойти по пути Робеспьера; они не хотели крови; у них было только желание заставить вас покаяться, что вы использовали власть для угнетения, что вы устранили из нее все народные формы и гарантии; и они захотели возвратить ее себе: они не пришли бы к этому, если бы вы нашли возможность установить народное правление, что вы после вандемьера, казалось, обещали.
Я сам в первых номерах моего журнала хотел открыть вам дверь к этому, я говорил, каким образом вы могли бы снискать благословение народа; я объяснил, каким образом в мае казалось возможным, чтобы вы изгнали из конституции вашего правления все, что расходится с истинными республиканским принципами.
Что ж, время еще не ушло: оборот последнего события может оказаться полезным и спасительным для вас и для общества. Пренебрежете ли вы моим мнением и моими выводами, что интересы родины и ваши собственные заключаются в том, чтобы данного дела не разглашать?
Мне показалось, что уже и по вашему мнению с ним следует обойтись политично: мне кажется, что вы поступите правильно. Не считайте моего поведения своекорыстным: откровенный и небывалый способ, с которым я не перестаю признавать себя виновным — в том смысле, в каком вы меня обвиняете, — показывает вам, что не слабость руководит мною: смерть или изгнание были бы для меня дорогою к бессмертию, и я пойду по ней с героическим и религиозным жаром, но ни моя гибель, ни гибель всех демократов ничуть не продвинули бы вас вперед и не обеспечили бы спасения Республики.
Я пришел к мысли, что в конечном итоге вы, однако, не всегда были врагами этой Республики; по-видимому, вы даже были верными республиканцами: почему бы вам не быть ими и теперь?
Почему не подумать, что вы, как люди, временно заблуждались, подобно другим, под довольно неизбежным влиянием преувеличений, расходящихся с нашими, и к которым вас привели обстоятельства? Почему, наконец, не отойти нам всем от наших крайностей и не принять благоразумного предела? Сердца патриотов, сердца народных масс растерзаны, разрывать ли их еще больше? Каков был бы окончательный результат? Не вполне ли заслуживают эти патриоты, чтобы, вместо углубления их ран, начать их залечивать? От вас зависит, когда вы захотите, положить начало добру, потому что в вас пребывает вся сила управления обществом.
Граждане члены Директории, управляйте в народном духе — вот и всё, чего от вас требуют эти же патриоты. Говоря так за них, я уверен, что не буду ими опровергнут. Я вижу только одно приемлемое разумное решение: объявите, что никакого серьезного заговора вовсе и не было.
Пять человек, выказав себя великими и великодушными, могут спасти теперь родину. Я отвечаю вам за то, что патриоты закроют вас своими телами, и вы больше не будете нуждаться в целых армиях, чтобы защищать себя. Патриоты не имеют к вам ненависти, они ненавидят только ваши антидемократические поступки: под мою личную ответственность я даю вам в этом гарантию, столь же широкую, как моя постоянная искренность.
Вы знаете, в какой мере имею я влияние на этот класс людей, я хочу оказать — на патриотов: я использую это влияние, чтобы убедить их, что раз вы за народ, они должны быть с вами едины.
Было бы не так плохо, если бы результатом этого простого письма явилось установление мира внутри Франции. Предотвращая огласку дела, предметом которого является Франция, не предотвратите ли вы в то же время то, что могло бы нарушить спокойствие Европы?
(Подпись) Г. Бабёф».
Уже давно было ясно, — а открытие заговора дало этому новые доказательства, — что преследование демократических учений служило причиной больших разделений среди прежних друзей революции а также, что оно все более и более угашало рвение народа к ее защите.
Такое положение вещей, увеличивая шансы роялистской партии, находившей поддержку за границей, казалось, должно было умерить гордость вождей новой аристократии и побудить их принять изменения в законодательстве. Эти изменения привязали бы к ним демократию, а через нее и народ, и тем уберегли бы Республику от столь гибельной для нее борьбы, а самих новых аристократов от поразивших их впоследствии несчастий. Это было как раз то, что предлагал Бабёф, настолько же в видах спасения своих друзей, как и с целью вернуть республиканскому духу покидавшую его силу.
Но может ли испуганная гордость выслушивать советы осторожности? Новое правительство закрыло глаза и неосмотрительно предалось слепой ярости, не желая снизойти до того, чтобы благоразумно сделать шаг назад, — а этим оно приобрело бы привязанность народа, которой оно никогда не обладало; оно довело свою ярость до того, что, вопреки всякому здравому смыслу и мнению, стало приписывать роялистские намерения тем гражданам, которые относились к роялизму с отвращением, и стало преследовать в них единственных людей, от которых Республика вполне основательно могла бы ожидать действительной и необходимой преданности.
Революционеры, ставшие аристократами, думали только о том, чтобы на миг воспользоваться той победой, которою они были обязаны гнусному предательству, и о том, чтобы раздавить партию, осуждавшую их узурпацию. Друэ было предъявлено обвинение, и он был отправлен на суд верховного трибунала, местом заседаний которого был указан Вандом.
Никто, гласила конституция III года, не может быть отведен от суда, ведению которого он подлежит по закону, и предан суду какой либо Комиссии и вообще не тех ведомств, которые предназначены для этой цели предшествующим законом. Тем не менее закон, возникший уже после раскрытия заговора, постановил, что сообвиняемые депутаты вместе с ним привлекаются к верховному трибуналу, не бывшему, однако, тем судом, который предписывался им по закону.
Та же конституция гласила: «Для всей Республики существует один кассационный трибунал, который рассматривает в последней инстанции все приговоры, вынесенные всеми судами».
Однако вышеназванный закон провозглашал, что решения верховного трибунала не подлежат кассации.
Товарищи Друэ приписывали расхождение этих положений с принципами конституции опасению правительства публичных прений на глазах парижского населения; они рассматривали их, как следствие того возбуждения, которое проявилось во время обсуждения данного вопроса и побудило одного рассвирепевшего законодателя вскричать: «Не к чему так церемониться о этими мятежниками!», а другого, не менее страстного: «Потребовалось бы слишком много времени, если захотеть действовать против мятежников со всеми формальностями».
В Париже подверглись обвинению пятьдесят девять граждан, из которых семеро судились заочно; многим обвинения предъявлялись с непростительной легкостью. В то же время по всей Республике выслеживались малейшие предлоги для увеличения количества обвиняемых, власть имущие хвастались, что верховный трибунал сделает из них гекатомбу. Состав подсудимых, доставленных Шербуром, Аррасом, Рошфором, Бургом и Сентом, был настолько ясно непричастен к делу, что им не могли бросить и тени обвинения.
Между тем как в Париже подготовлялась трагедия, которой предстояло быть сыгранной в Вандоме, парижские демократы волновались об освобождении своих товарищей: Друэ бежал из тюрьмы в Аббэ при содействии одного привратника-республиканца; но бегство заключенных в Тампле, базировавшееся на соглашении со сторожившими их солдатами, не удалось за отсутствием необходимой согласованности действий.
Паш был единственным не попавшим в тюрьму человеком, который открыто изложил в одной печатной прокламации [44] взгляды и дело обвиняемых.
Несколько писателей, работавших в периодических изданиях, противопоставили потоку сыпавшихся на подсудимых обвинений довольно слабую преграду; они делали это неловко и несмело: то отрицая очевидные факты, то намекая, что этот заговор тайно спровоцирован правительством; и ни разу они не посмели подойти к вопросу со стороны законности деятельности заговорщиков и оправдать их истинные намерения.
В ночь с 9 на 10 фрюктидора IV года все содержавшиеся в Париже обвиняемые были пересланы в Вандом; начальник города велел тщательно обыскать их на своих глазах и сам поместил их в клетки с решетками устроенные специально для того, чтобы сделать из подсудимых, как из диких зверей, забавное зрелище для врагов равенства и для людей, обманутых и восстановленных против арестованных. Эшелон прошел через Париж среди массы войск и всю дорогу сопровождался сильным отрядом жандармов и кавалерийскими полками. Женщины, дочери и сестры подсудимых следовали за ними пешком и часто бывали вынуждены сносить суровость погоды и насмешки аристократов.
Им столько пришлось вытерпеть от грубости офицера, командовавшего их эшелоном, что они не могли нахвалиться любезным приемом, оказанным им городскими властями Шартра и Шатодена.
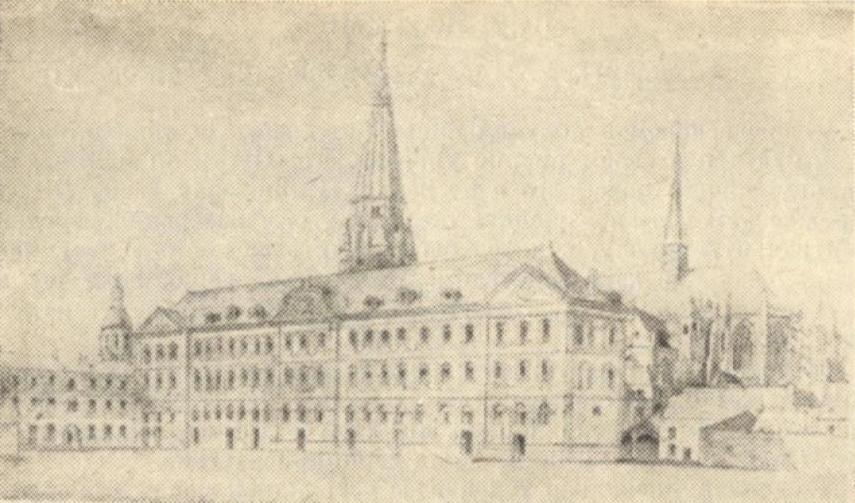 |
В Вандоме специально для них был устроен трибунал и приготовлена обширная тюрьма; вечером 13 фрюктидора в нее поместили всех бывших налицо подсудимых; несколько времени спустя Антонелль и Фион, арестованные после предъявления им обвинения, а также подсудимые, прибывшие из Рошфора, Шербура и Арраса, попали в ту же тюрьму. Войска всякого рода оружия строго охраняли подходы к тюрьме и те улицы города, доступ к которым запрещался текущим законом на 10 верст в окружности; у предстоящего суда желали отнять всякий вид публичности.
Время между прибытием обвиняемых и открытием заседаний верховного трибунала было употреблено последним на свое конструирование, на допросы, на установление неявок на суд, на созыв присяжных и на разбор предъявленных обвиняемыми просьб и отводов судей.
Подсудимые воспользовались этим для протестов, для отводов, на которые они имели право, и для согласования и подготовки своих защитительных речей.
Вышеприведенные мало соответствующие конституции декреты открыли широкое поле для протестов подсудимых; многие из них, не признавая правомочности верховного трибунала, увидели возможность поднять между ним и Законодательным корпусом распрю, которая могла привести к благоприятным для народного дела событиям; напрасная надежда! Верховный трибунал объявил себя правомочным.
Из всех судей, назначенных избирательными собраниями департаментов, обвиняемые могли подвергнуть 30 человек немотивированному отводу.
Это было очень важным обстоятельством, от которого могла зависеть судьба многих из них.
При помощи неполных и часто неточных сведений, собранных в департаментах, подсудимые установили на общем совещании имена лиц, подлежащих отводу; они были распределены между тридцатью обвиняемыми, чтобы каждый мог отвести по одному.
Однако, так как выборы IV года производились во многих местах в отсутствие республиканцев (или исключенных, или насильно изгнанных с собраний) и под влиянием врагов революции, то было невозможно оставить в списке судей только истинных друзей свободы; приходилось удовлетвориться лишь менее дурными. Из лиц, заслуживавших полного доверия, одни были исключены судом, как родственники эмигрантов; другие, поддавшись страху, притворились больными, что было признано уважительной причиной; на суде присутствовало только трое.
Как только Бабёф был лишен свободы, его первой мыслью было сознаться в заговоре и отстаивать его законность. Это видно из его ответов начальнику полиции, спрашивавшему у него, имел ли он намерение свергнуть правительство и вступал ли для достижения этой цели в союз с другими лицами. Вот эти ответы: «Глубоко убежденный, что теперешнее правительство является угнетателем, я сделал бы все, что в моих силах, для его свержения. Я вступил в союз со всеми демократами Республики, но долг но позволяет мне назвать ни одного из них». Спрошенный тем же начальником о средствах, которые он рассчитывал употребить, он ответил: «Все законные средства; против тиранов»; а затем: «Мне нечего сообщать подробности о средствах, которые были бы употреблены. Впрочем, они зависели не только от меня; на совете тираноборцев мне принадлежал только один голос».
Спустя несколько дней он на допросе у председателя суда таким образом отвечал на обвинение в организации заговора: «Я констатирую, что мне делают слишком много чести, украшая меня титулом вождя заговора; я утверждаю, что я занимал в нем только второстепенное место, и в тех границах, которые я укажу: я оправдывал этот заговор, потому что находил его законным и потому что считал и считаю, что теперешнее правительство — бесконечно преступно, оно — захватчик власти, оно — грабитель всех прав народа, доведенного им до самой тяжкой бедности, до самого жалкого рабства; наконец, оно преступно в оскорблении нации по первому пункту; я оправдывал этот заговор потому, что я верил и верю в святость принципа, что организация заговоров против подобного правительства является непреложным долгом всех свободных людей: поэтому я охотно согласился всячески помогать вождям и руководителям образовавшегося против него заговора». Установив, какую роль он играл в заговоре, он добавил: «Вот подробности, которые, без сомнения, уничтожат нелепое предположение, будто я был главарем заговора, утверждение, основанное единственно на том обстоятельстве, что в момент ареста при мне находилась часть бумаг заговорщиков. Я повторяю, что я вовсе не хочу ослаблять этим мою виновность; я только хочу быть добросовестным и не выступать в роли, более блестящей, чем я этого заслуживаю, в роли, вовсе не моей. После этого я, однако, согласен понести самое тяжелое наказание за преступление в злом умысле против угнетателей, ибо сознаюсь, что касается намерений, то никто не мог входить в заговор больше, чем я; я убежден, что это преступление является общим всем французам, или по крайней мере всей честной их части, всем, кто против ужасной системы счастья для немногих, счастья, основанного на позоре и крайней нужде масс; я объявляю себя всецело замешанным в это преступление и изобличенным в нем, и я утверждаю, что среди заговорщиков как раз я служил ему».
В течение долгого следствия, производившегося председателем суда присяжных, главные подсудимые все время содержались в одиночных камерах. При невозможности сговориться с Бабёфом, считавшимся наиболее осведомленным в этом деле, остальные, из опасения дать противоречивые показания или подвести друг друга, предоставили ему давать объяснения и держаться в границах строгой осмотрительности. Одни не узнавали своего собственного почерка, другие выдумывали небылицы; Дартэ беспрерывно протестовал против незаконности данного судебного процесса.
Если бы не слабость Пийе, арестованного вместе с Бабёфом и Буонарроти, то его почерк и еще нескольких других подсудимых остались бы неузнанными. Безумно боясь, чтобы сделанные им копии актов Инсуррекционного комитета, в котором он был секретарем, не вызвали бы обвинения в активном участии в заговоре, он поспешил объявить, что он делал и что он видел, и назвать авторов рукописей, переписанных его рукой. Этот обвиняемый, трусливое поведение которого имело гибельные последствия, ловко играл в тюрьмах и на суде роль дурачка. Находясь перед верховным трибуналом, он заявил, что к Бабёфу его толкнула нечистая сила; он утверждал, что можно быть в договоре с дьяволом, чтобы пользоваться его покровительством или чтобы кому-нибудь вредить, и просил слова, чтобы, как он говорил, привести подробности. Никто из действительно скомпрометированных обвиняемых не поколебался перед угрожавшей им смертельной и неминуемой опасностью. Все оставались непоколебимыми в своей привязанности к защищаемому ими учению и не изменили своего решения закрепить его кровью; их показания никого не выдали.
Приехав в Вандом, они сговорились отказаться от всяких недоговариваний, от всяких уверток, от всяких запирательств, сознаться в заговоре и ограничить свою защиту указанием на его законность. Они считали это последнее свидетельство обязательным для себя, чтобы отдать таким образом справедливость своему делу, а родине дать неизгладимый пример постоянства и твердости. Но другие обвиняемые, менее скомпрометированные и более осторожные, были встревожены таким планом защиты и сочли своим долгом помешать его выполнению. «Если вы сознаетесь, говорили они своим товарищам, в существовании заговора, то сможет ли суд объявить его недостоверным? Возможно ли, что среди наших присяжных заседателей найдется хоть четверо, которые осмелятся оправдать ваши намерения и ответить святой ложью на те вопросы о фактах, которые им будут предложены? Это значило бы слишком многого ожидать от людей, избранных в пору подкупности и испорченности. Если заговор будет признан действительно существовавшим, не увлечете ли вы к гибели вместе с собою и нас, ваших друзей, и тех многих республиканцев, которые уже являются жертвой клеветы и преследований? Побойтесь подвергать совесть наших судей слишком тяжкому испытанию и дайте им по крайней мере предлог к вашему оправданию».
Может быть, эти замечания заставили главных обвиняемых почувствовать опасение, чтобы во время судоговорения не вспыхнул гибельный раскол, а может быть они отступили перед мыслью, что, повредив своим друзьям, они нанесут удар отечеству, или же, наконец, они поддались чувству самосохранения, но только первоначальный план был отвергнут; было решено, что формальный заговор следует отрицать, но что его цель будет защищаться условно и что надо стараться давать такие объяснения, которые не могут быть опровергнуты захваченными бумагами и доказанными фактами.
Однако показания доносчика были так подробны и точны, они настолько подкреплялись многочисленными неопровержимыми прокламациями обвиняемых, что, хотя все обвинение основывалось единственно на них, казалось невозможным, чтобы какой-либо человек, оставив в стороне всякие политические соображения, мог после самого поверхностного ознакомления с делом искренно отрицать существование заговора.
С тех пор те обвиняемые, которые были сильно скомпрометированы, решили защищаться путем утверждения, что якобы существовавшего союза вовсе не было, но что если бы он был, то в нем отсутствовала бы какая бы то ни было преступность: или за недостатком средств к его выполнению, или потому, что при наиболее благоприятных условиях приписываемая ему цель была бы законна и правомерна.
То, что подготовлялось для суда, уже было предвосхищено Антонеллем [45] по отношению к публике. Этот мужественный гражданин использовал тогда свои таланты и свое состояние наиболее благородным образом. Хотя никакого подозрения против него не возникало, он открыто присоединился к делу своих подлежащих суду друзей; при помощи многочисленных сочинений он расположил общественное мнение к благоприятному приему их защиты и из недр своей тюрьмы без стеснения обвинял правительство, восхвалял конституцию 1793 года, оправдывал намерения заговорщиков и почти что осмелился назвать себя их сообщником.
В это несчастное время почти все республиканские силы были заключены в тюрьму в Вандоме. Там обвиняемые поддерживали друг друга, желая служить народу примером непоколебимой твердости, и жили в самом демократическом товариществе. Заметные различия между равными [XL] и бывшими членами Конвента не мешали полноте гармонии, она увеличивалась с каждым днем благодаря сближению взглядов и благодаря верности, с которою каждый исполнял перед судом свой долг.
По вечерам далеко разносилось пение республиканских песен, в которых принимали участие все заключенные; и жители, привлекаемые любопытством и любознательностью на соседний холм, часто присоединяли к этому пению свои голоса и аплодисменты. У людей, дерзнувших на столь многое ради дела, которому они были так преданы, судьба Республики естественно была предметом постоянных разговоров и беспокойства. Одно ужасное событие доставило новую пищу как тому, так и другому. Едва обвиняемые прибыли в Вандом, как они узнали о роковом событии в Гренелле, где столько чистых демократов потеряли жизнь, благодаря ловушке, к которой их привело желание разбить цепи арестантов и восстановить права народа. Благодаря гнусной резне, могущество аристократии пополнилось всей той силой, которая была вырвана у демократической партии.
В скором времени несколько уличенных роялистских заговорщиков, эмиссаров осужденной законом династии, встретили самую скандальную снисходительность со стороны покровительствовавшего им большинства законодателей и со стороны судившей их Военной комиссии.
Около того же времени суды, которым было поручено заочно судить обвиняемых 13 вандемьера [XLI], объявили недоказанным заговор, заливший кровью в названный день весь Париж;
Эта судебная снисходительность вызвала неудовольствие министерства. «Я боюсь, — говорил один из его членов, — чтобы это не послужило примером для обвиняемых в Вандоме». От них правительство особенно желало отделаться.
Наконец, 2 вантоза V года [46] суд начался.
Налицо было сорок семь обвиняемых; восемнадцать судились заочно. Бабёф, Дартэ, Буонарроти, Жермен, Казен, Клод Фике, Буэн, Фион, Рикор, Друэ, Линдэ, Амар, другие действительно принимали активное участие в заговоре; пятеро были причастны к нему лишь косвенным образом, а все остальные были ему совершенно чужды и предстали перед верховным трибуналом только благодаря ярости партии, желавшей сделать этот суд истребителем демократии.
Присутствовавшие обвиняемые: Бабёф, Дартэ, Жермен, Блондо, Корда, Фроссар, вдова Мунар, Буонарроти, София Лапьер [47], Гуляр, Мюнье, Массар, Рейбуа, Фион, Кошэ, Нейе, Будэн, Жанна Бретон, Вадье, Леньело, Тулотт, Ламбер, Ламбертэ, Поттофэ, Морель, Дюфур, Моруа, Клерэ, Амар, Филипп, Казэн, Николь Мартэн, Таффуро, Друэн, Руа, Пийе, Бретон, Дидье, Антонелль, Антуан Фике, Рикор, Тьерри, Аделаида Ламбер, Вернь, Дюплей-отец, Дюплей-сын, Крепэн.
Судившиеся заочно: Друэ, Ленде, Вакре, Клод Фике, Гилем, Кретьен, Моинье, Рейс, Менесье, Мунар, Бод, Буен, Паррен, Бодсон, Лепелетье, Россиньоль, Жорри, Кордебар.
Трибунал охранялся большой военной силой; возле каждого обвиняемого находилось по два жандарма.
Зала заседания была обширна, и часть ее, предоставленная публике, была всегда полна народа, часто аплодировавшего обвиняемым, но никогда не аплодировавшая обвинителям.
Было много защитников, расходившихся иногда с мнениями обвиняемых, намерения которых они никогда не решались оправдывать.
Настоящими защитниками дела были: Бабёф, Жермен, Антонелль и Буонарроти.
Сопровождавшие обвиняемых сильные духом женщины постоянно присутствовали на всех заседаниях суда.
Из главных обвиняемых упорно протестовал один только Дартэ, оказавшийся более последовательным, чем все остальные; он все время не признавал за верховным трибуналом права его судить, постоянно отказывался отвечать и давать объяснения и позволил осудить себя, не защищаясь.
Снова высказав перед судом свой протест, он произнес следующие слова: «Что касается меня, то если провидение назначило это время сроком моей жизни, я окончу ее со славой, без боязни и без сожаления. Чего мне, увы, жалеть? Когда свобода гибнет; когда здание Республики камень за камнем разрушается; когда ее имя стало отталкивающим; когда друзья и поклонники равенства подвергаются преследованиям, не имеют пристанища, выносят ярость убийц или бедствия самой страшной нищеты; когда народ, жертва всех ужасов голода и недостатка, лишен всех своих прав, унижен, презираем и чахнет под железным ярмом; когда эта возвышенная революция, надежда и утешение угнетенных народов, является только призраком; когда защитники отечества повсюду встречают оскорбления, не имеют одежды, терпят притеснения и сгибаются под самым гнусным деспотизмом; когда в награду за свои жертвы, за пролитую во имя общей защиты кровь, с ними обращаются, как с разбойниками, убийцами, грабителями, и когда их лавры превращены в тернии; когда роялизм повсюду дерзок, встречает поддержку, почет и даже награждается слезами и кровью несчастных; когда фанатизм с новой яростью извлекает свои кинжалы; когда ссылка и смерть витают над головами всех честных людей, всех друзей разума, принимавших участие в великой и отважной деятельности для пользы нашего поколения; когда к довершению ужаса разбойники влекут за собой страдание, отчаяние и смерть во имя самого священного, самого достойного поклонения на земле, — во имя святой дружбы, глубоко почитаемой добродетели, почетной честности, благодетельного правосудия, кроткой гуманности, во имя самого божества; когда глубокая безнравственность, ужасная измена, гнусное предательство, позорное вероломство, разбой и убийство официально чествуются, встречают похвалы и называются священным именем добродетели; когда все общественные связи порваны; когда вся Франция в трауре; когда она вскоре будет представлять испуганному взору путника только груды трупов и дымящиеся пустыни; когда нет больше отечества, — тогда смерть является благом.
Я не завещаю моей семье и моим друзьям ни бесславия, ни позора; они могут с гордостью назвать мое имя среди имен защитников и мучеников за возвышенное дело всего человечества. Я с уверенностью утверждаю, что я прошел весь революционный путь без единого пятна; никогда мысль о преступлении или низости не омрачила моей души; еще молодым уйдя в революцию, я выносил всю ее тяготу, все ее опасности, никогда не падая духом, не имея иной радости, как надежду увидеть когда-либо создание сильного царства равенства и свободы; занятый только возвышенной целью этого благотворного дела, я пришел к самому полному самоотречению; личные выгоды, семейные дела, все было забыто, все осталось в пренебрежении; мое сердце билось только для мне подобных и для торжества справедливости».
С самого начала государственные обвинителя возбудили ярую ненависть не только против обвиняемых, но и против всего, что было сделано на пользу демократии в продолжение всей революции. Устанавливая прежде всего факт существования воображаемого крамольного союза злых существ, прежде никому неизвестных чудовищ, лицемеров, антирелигиозных честолюбцев, мстительных, свирепых клеветников, человекоубийц, сынов анархии, рожденных в лоне ее, не знающих ничего, кроме нее, беспрестанно обращающихся к ней и приветствующих только ее, они приписали этому союзу все революционные акты и движения и не побоялись еще до разбора дела отнести к его членам тех обвиняемых, которым предстояло подвергнуться суду верховного трибунала.
Влияние этой крамольной партии оказывалось из слов обвинителей таким, что слушавшие их не могли разобрать, собственно каким событиям революции их судьи оказывали честь своим оправданием.
Судя по определению, данному ими законному восстанию, следовало заключить, что в глубине души они распространяли проклятие, бросаемое ими национальным движениям, даже и на 14 июля, — единственное событие, которое они, как казалось, приветствовали.
Благодаря многочисленным захваченным у обвиняемых прокламациям, обвинителям было не трудно доказать существование того союза, который они называли преступным заговором; но что касается намерений, т. е. существенного элемента преступления, то они старались отвлечь от них прения, а в том немногом, что ими говорилось о намерениях заговорщиков, они исказили их рискованными и нелепыми предположениями и выводами.
Их постоянной целью было представить обвиняемых презренными и отвратительными существами и помешать им убедить Францию, что их взгляды возвышенны, что их оппозиция конституции III года — законна и что их попытки были правильны и совпадали с интересами общества.
Что следует думать об этих обвинителях, которые, имея поручение преследовать во имя Республики инициаторов невыполненного плана, позволили себе оправдать заговор и восстание, благодаря которым 13 вандемьера IV года была пролита кровь многих тысяч граждан и конечной целью которых было восстановление королевской власти?
Заодно с обвинителями и судьи стремились заключить прения в узкие рамки фактов и много раз пользовались своей властью для того, чтобы запрещать обвиняемым какой-либо, хотя бы и предположительный, спор о сущности заговора и какое-либо рассмотрение их прокламаций, которые, однако, были представлены обвинителями как главное и почти единственное орудие заговорщиков.
Таким образом, суд, который, казалось, должен был защищать права нации и обуздывать власть имущих, был в этом деле только игрушкой в руках тех лиц, которые пренебрегли народным суверенитетом и при помощи хитрости и насилия захватили верховную власть.
Хотя сильно замешанные в заговор обвиняемые отказались формально признать его существование, тем не менее они упорно продолжали защищать его принципы. Революция была в их глазах святым делом; они добросовестно оставались верны народному суверенитету и утверждавшей его конституции 1793 года; гордясь тем, что они сделали для их восстановления, они принимали, как почесть, надетые на них кандалы и угрожавшую им опасность.
Острое раздражение, явившееся следствием враждебности между взглядами обвинителей и чувствами обвиняемых, много раз находило себе выход в ядовитых речах прокуроров, в пристрастных прерываниях судей и в возмущенных протестах подсудимых.
Могли ли последние хладнокровно выслушивать клевету на основателей Республики и отказывать в талантливости, мужестве и нравственности самым стойким столпам равенства? Могли ли они молча выслушивать, как им приписывают корыстные и низкие чувства, им, большинство которых тысячу раз рисковало за отечество своей жизнью и уходило с общественных должностей в почетной бедности? Им, против кого в течение столь долгого судебного процесса не раздалось ни одного упрека в каком-либо бесчестном поступке?
Во время судоговорения обвиняемые ни разу не изменили себе. При каждом удобном случае они высказывали свое уважение к Республике и равенству; много раз они успешно опровергали политические софизмы обвинителей и почти на каждом заседании оглашали своды суда пением республиканских песен.
Изменник, донесший на доверчивых людей, которым он льстил, которых он возбуждал, с которыми был так любезен и которых он предал... Гризель! [Он] фигурировал в списке свидетелей, в числе которых находились и шпионы из полиции; испытывая ужас перед столь глубоким нравственным падением, они все время отказывались сидеть с ним рядом.
Обвиняемые надеялись отвести этого свидетеля, потому что закон запрещал выслушивать доносчика при разборе такого преступления, донос на которое власть вознаградила деньгами, или если доносчик может извлечь выгоду из своего доноса каким-либо иным образом.
По мнению обвиняемых и их защитников, слово «может» выражало «неограниченную возможность». Под этим выражением можно было подразумевать то вознаграждение доносчика, которое он еще мог ожидать от правительства.
Придуманный правительственными обвинителями выход из того положения, в которое их ставили настойчивые утверждения обвиняемых, вызвал общий смех; обвинители осмелились утверждать, что название «доносчик» к Гризелю неприменимо: он сделал свое первое сообщение Директории, а не чиновнику судебной полиции, т.е. явился только простым «осведомителем».
Эта отговорка была неудачна; тем не менее трибунал решил, что значение слова «может» должно распространяться только на приобретаемые благодаря доносу права, и постановил выслушать Гризеля, что вызвало среди многих присутствующих сильное негодование.
На суде было около пятисот уличающих документов, и много заседаний было посвящено предъявлению этих бумаг опознававшим их обвиняемым, или проверке экспертами тех из них, которые приписывались лицам, не дававшим ответов или судившимся заочно.
Неистощимы были предположения относительно того, что за слова находились в одном документе, которому обвинители придавали большое значение; передавая этот документ начальнику полиции, Бабёф сделал на данных словах большое чернильное пятно. Праздный спор по этому вопросу вызвал резкие нападки как с той, так и с другой стороны и окончился ужасным переполохом; заседание было внезапно прервано среди криков обвинителей, защитников и подсудимых; удаляясь, последние с жаром спели строфу из «Марсельезы»: «Трепещите, тираны и вы, изменники!» Трибунал составил о случившемся протокол, который был поставлен Законодательным корпусом на повестку в порядок дня.
Вследствие одного обвинения, брошенного подсудимыми председателю, обвинители стали жаловаться, что подсудимые хотят путем нагромождения инцидентов бесконечно затянуть ведение процесса.
«Столько голосов, — говорили они, — поднимается против медлительности верховного трибунала».
«Что это за столь многочисленные голоса? — вскричал Бабёф. — Друзья народа, вы конечно догадываетесь. Это голоса только той касты, неудачно называемой благородною, которая, по сравнении с массой, не больше точки, но которая имеет наглость претендовать быть всем, жить, ничего не делая, на труды значительного большинства, считать эту исключительно полезную массу ничем, угнетать ее и морить ее голодом, постоянно пользуясь ее руками, ее умом и ее трудом. Такова, республиканцы, та кучка вампиров, ради которой здесь говорят, что все голоса восстают против медлительности действий лиц, обещавших нас уничтожить.
Таковы те, с кем здесь стараются быть любезными. “Благородные”, вы будете удовлетворены! Прочтите отчеты первых заседаний верховного трибунала, вы убедитесь, как вам на них служили. А вы, основная и большая часть народа, вы увидите, как с вами обращаются в лице тех, кто не покинул ваших интересов. Также и вы, друзья и защитники народа, товарищи по славе, вы слышали все это; это золотой телец требует вашей жертвы. Сквозь вопли кровожадной шайки вы не различаете голосов тех двадцати четырех миллионов угнетенных, прекрасное дело которых вы поддерживаете. Под тяжестью цепей они тихо стонут, лишенные всего, нагие, падающие от истощения, обращающие свое преклонение и свое сожаление к теням покрытых славой мучеников, их предшественников в деле достижения счастья общества; они завещали вам свою высокую миссию, а вы в свою очередь передадите ее другим справедливым, таким же пылким и, может быть, более счастливым, чем вы и ваши предшественники. Добродетель не умирает, тираны обольщают себя своими свирепыми преследованиями; но они уничтожают только тела; душа благородных людей меняет только оболочку; тотчас по уничтожении одних существ она дает жизнь другим, которым она продолжает внушать великодушные побуждения, никогда не оставляющие в покое господствующие преступления.
Согласно этим последним мыслям и согласно всем нововведениям, которые, как я вижу, растут с каждым днем, чтобы ускорить мою гибель, я предоставляю моим угнетателям всю желательную им свободу действий; я пренебрегаю бесполезными подробностями моей защиты; пусть мои враги нанесут мне удар, уже ничего больше не ожидая в ответ; я мирно усну в объятиях добродетели».
Гризель говорил в течение двух заседаний и подробно рассказал все, что он делал, чтобы узнать, быть вместе, обмануть и выдать. Он говорил правду, не считая нескольких продиктованных тщеславием дополнений, благодаря которым он иногда сам себе противоречил. Но хотя в нем нельзя, было увидеть лжеца, это не уменьшало возмущения против дерзости, с которой он выставлял напоказ свое вероломство и хитрость, с помощью которых он сумел добиться благосклонности тех людей, которых он думал погубить. Побуждаемый естественным негодованием Антонелль ярко обрисовал лицемерие предателя и заклеймил его неизгладимой печатью позора.
Говоря о некоторых обвиняемых, Гризель сказал: «Я вижу здесь только агентов, ни один из них не был действительным вождем заговора; где-то за кулисами находились люди, которые ими руководили». В ответ на эту фразу у Жермена вырвались следующие слова:
«Ах, если нас мало, пойди на берега Оды и извлеки труп моей жены из-под покрывающего ее песка; поди оспаривать пищу у червей, менее чем ты достойных ее пожирать; бросься, как голодный тигр, на мою мать; добавь к этому ужасному пиру моих сестер и их детей; вырви моего сына из слабых рук его кормилицы и разжуй своими хищными зубами его нежные члены. Шестьдесят наших семейств предлагают тебе такую же отталкивающую пищу; иди, хватай ее, иди. Ну что? Эта приманка не соблазняет тебя? Это, без сомнения, значит, что ты еще притворяешься!» Слова, которыми Жермен закончил свою красноречивую защитительную речь, не менее замечательны: «Без какого бы то ни было страха и слабости жду я, — сказал он, — вашего приговора; каков бы он ни был, почему бы мне бояться, почему падать духом? Действительно, — если я умру, свобода не будет иметь более преданного мученика; если я останусь в живых, у нее не будет более бесстрашного защитника».
Гризель говорил о восстании 1 прериаля III года [XLII], приписывая его анархистам, причем он, по примеру обвинителей, делал вид, что под этим названием подразумевает всех искренних друзей равенства. «Прериаль! — вскричал Бабёф, — ужасное время, дни, жуткие, но святые и благоговейно чтимые, никогда не возникающие в памяти благородных французов без умиления и сожаления; в них воспоминание о самых больших преступлениях, и в них воспоминание о благородной деятельности добродетели и о самых больших несчастиях народа... Прериаль! бедственные, но почетные дни, когда народ и его верные представителя исполнили свой долг и когда его вероломные уполномоченные, его мучители, убийцы, узурпаторы суверенитета и всех прав довели беспримерную в истории жестокость до апогея. Оставались только вы, Гракхи! о бессмертные французы! только вы оставались благородными; только вы осмелились провозгласить себя поддержкой и защитой народа; только на вашу преданность могли опереться его слишком справедливые требования: хлеба и законов! Гужон, Дюруа, Ромм, Субрани, Дюкенуа, Бурботт [XLIII], славные жертвы, вы, чьи имена навсегда останутся знаменитыми, чьи имена уже звучали в этой зале и еще не раз прозвучат; вы, чьи цепи мы не перестаем ежедневно воспевать! вы, чье постоянство в цепях и перед судьями-палачами послужит нам примером, чтобы мы могли вынести самую долгую и самую тяжелую неволю! наконец, вы, кого убили злые, но кого они ни на минуту не могли очернить! славные мученики! бесстрашная опора святого равенства! свободу, суверенитет народа, все принципы, гарантирующие его счастье, вы спасли от позора быть захваченными без мужественного сопротивления... Мы должны были заменить вас после вашей гибели; погибнув, подобно вам, мы должны вам подражать и стоять пред нашими преследователями непоколебимо, как вы; и всякий истинный республиканец должен почтить время, когда вы пали жертвою самых ненавистных врагов Республики...»
На этом трибунал заставил Бабёфа умолкнуть.
Полицейские сыщики пришли дать показания против рабочих, обвиненных после ареста Бабефа в организации союза для его освобождения и для выполнения его планов; свидетели, люди без стыда и чести, среди которых можно было увидеть даже фальшивомонетчика, раздобытого в тюрьме специально для того, чтобы из него сделать шпиона, эти люди согласованностью своих действий только подбадривали тех, против кого они давали показания.
Среди стольких погибших существ выделялись два несчастных молодых человека, которые своими бедствиями, своим благородством и своим мужеством вызвали у зрителей слезы умиления. Жан-Батист Менье и Жан Ноэль Барбье, тот и другой солдаты, были приговорены к десяти годам каторги за события, связанные с возмущением полицейского легиона [XLIV]. Судившая их военная комиссия вырвала у них признание против нескольких обвиняемых: их доставили в Вандом, чтобы получить подтверждение этих признаний. Но далекие от того, чтобы оправдать надежды обвинителей, Менье и Барбье громко отказались от всего, в чем они имели слабость сознаться, и предпочли навлечь на себя новое обвинение в лжесвидетельстве, чем сказать хоть слово против судившихся здесь людей.
Они сделали даже больше; они поклонились обвиняемым и приветствовали их пением республиканских песен, они назвали их друзьями народа и просили разрешения разделить их славу. Такая добродетель была вознаграждена новым осуждением на каторгу. О времена!..
Благодаря принятому решению отрицать заговор, ни один из обвиняемых не был стеснен в своей защитительной речи больше, чем Бабёф.
Из около пятисот служивших уликой бумаг, которые почти все были захвачены у него и содержали буквально всю организацию, план, акты и переписку Инсуррекционного комитета, более ста было написано его рукой; донос был целиком против него; пять длинных заседаний ушли на его допрос.
Как было давать столь малоправдоподобные объяснения многочисленным фактам, выводимым из этих документов и подтвержденным доносчиком? Однако главные обвиняемые попытались это проделать; иногда это им до известной степени удавалось, но в общем они достигли лишь того успеха, что открыли более широкое поле действия тем из судей, которые уже разделяли их взгляды. При таком положении их защита была мало связанной совокупностью ухищрений, которые им были не по душе и которым они подчинились только из уступки своим товарищам по несчастью.
Настоящая защита этих обвиняемых целиком заключалась в признании ими своих демократических принципов, в торжественно выраженном ими преклонении пред конституцией 1793 года и в той настойчивости, с которою они условно оправдывали цель заговора.
Этот заговор весь исчерпывался тем уставом одной Инсуррекционной директории, который обвинители называли «узурпацией суверенитета»; как раз на этом документе главным образом и строилось обвинение. Бабеф защищал его мотивы, намерения и тактику.
«Здесь вовсе не процесс отдельных лиц, здесь процесс всей Республики; несмотря на всех инакомыслящих, к нему следует относиться со всем величием, торжественностью и преданностью, каких требуют столь огромные интересы... Этот акт, — продолжал он, — является делом всех республиканцев, и все республиканцы замешаны в это дело; следовательно, он является достоянием Республики, революции и истории... Я должен его защищать».
Сравнивая затем свое положение в текущий момент с положением демократов, оставшихся на свободе, он вскричал: «Гений свободы! какую благодарность должен я тебе вознести за то, что ты поставил меня в такие условия, при которых я свободнее всех остальных людей, именно благодаря тому, что я в кандалах! Как прекрасно мое положение! Как прекрасно мое дело! Оно позволяет мне пользоваться, только языком истины!.. При моих цепях моя речь имеет большие права, чем речи всего бесчисленного множества угнетенных и несчастных, из которых каждому, как и мне, могли бы выстроить для жилья тюрьму. Они страдают, они истощены, они изнурены налогами и подавлены самой острой нуждой, угнетены самым отвратительным унижением и к довершению жестокости им даже больше не позволяется жаловаться... Если родина осуждена на смерть в лице тех ее сынов, которые замешаны в это дело, пусть же по крайней мере скажут, что, погибая, они не изменили и что они мужественно исповедовали заветы своей матери... Я обращаюсь к честным людям, они одни могу тут видеть нашу справедливость: если бы больше никого из них не было, чтобы меня выслушать, ах, конечно, только и оставалось бы, что возвести эшафот». Но когда Бабёф умиленно заговорил о конституции 1793 года и когда он начал вспоминать те насилия, которые отняли ее у народа, государственные обвинители принялись нападать на обвиняемых, утверждая, что они якобы вели заговор и против правительства. И тотчас же Бабёфу пришлось умолкнуть.
Буонарроти также пытался оправдать вышеназванный документ; он говорил, что учреждаемый им орган имел целью только пропаганду демократического учения; он утверждал, что если бы даже этот орган подготавливал какие-либо законодательные проекты, чтобы затем передать их народу (недовольство которого было общеизвестно и возмущение которого уже предвиделось), то он только совершил бы ничуть не противоречащий законам акт осторожности; наконец, принимая гипотезу, что Тайная директория желала побудить народ к пересмотру формы правления, Буонарроти показал, что такое воздействие является правом каждого гражданина во всякой стране, управляемой такой конституцией, которая, как и конституция III года, признает, что суверенитет принадлежит совокупности всех граждан.
Позже Бабёф искусно вернулся к этому вопросу, и, после нескольких предварительных осторожных замечаний, он мог открыто сказать: «Пробудить настоящий народ, создать царство счастья, царство равенства и свободы, всеобщую зажиточность, всеобщее равенство и свободу, всеобщее счастье — вот пожелания этих якобы мятежников, которых на глазах всей Франции описали в таких ужасных красках».
Переходя затем к тактике заговорщиков, он показал, что фактически она сводилась к проведению революции во взглядах, к созданию того движения в умах, действие которого авторы обвинительного акта, по его мнению, преувеличили. «Потому что, — как он весьма основательно добавил, — слишком ясно, что духовная революция — этот необходимый результат обращения на путь истины множества людей и их отказа от всех обуревающих их страстей — вовсе не является делом, осуществление которого было бы удобопонятным, если заниматься только проповедью добродетели. С тех пор как у различных народов существуют просветители, эти благородные люди, посвящающие себя проповеди истин верховного разума и указанию пути к истинной справедливости, почти никогда никто не видел их успеха, зато почти всех их видели жертвою своего проповедничества».
Он сделал даже больше — он доказал, что, когда народ угнетен, восстание, хотя бы и частичное, является справедливым и необходимым; опираясь на свои рассуждения и на авторитет Мабли, он целиком отверг безжизненную теорию государственных обвинителей, говоривших: «Восстание законно только тогда, когда его совершает совокупность всех граждан». То есть следовало сказать: никогда.
Дважды было предложено Бабёфу назвать своих сообщников; и дважды он с ужасом отверг это предложение.
С таким же негодованием оттолкнул он ту систему лжи, при помощи которой некоторые обвиняемые и один защитник хотели вести защиту, а именно приписывая мысль о заговоре — тирании и представляя ее агентов провокаторами самых опасных для нее актов. Речь шла об «Акте восстания», по поводу которого Рикор вскричал: «Да это Гризель его составил!» — «Нет, — гордо возразил Бабёф, — он его не составлял. Это не такой документ, который должен вызвать краску на лице своего автора; Гризель слишком большой преступник, чтобы составить подобный “Акт”».
Все улики предъявлялись обвинителями в том порядке, в каком они возникали в действительности, и естественно, что, собрав их вместе, они легко восстановляли по ним действительную историю заговора.
Что обвинители собирали, то обвиняемые, прикованные своим соглашением к системе отрицания, старались разъединить, относя написанные ими документы к независящим друг от друга причинам, к случайным событиям, к разному времени. Анализируя эти документы, они не пропускали ни одного случая провозгласить свои демократические принципы, оправдать их и показать, что конституция, управлявшая тогда Францией, не была той конституцией, которую принял французский народ.
Таким-то образом Буонарроти, объясняя план того воззвания к солдатам, которого он был автором, сказал, почему он деятельно служил французской революции; несмотря на останавливания со стороны трибунала, он представил причины, в силу которых он защищал конституцию 1793 года; он обвинял правительство в узурпации и тирании и одобрял намерения и поступки революционного правительства. Он воскликнул: «Из моего сердца не могла изгладиться данная мною клятва защищать законодательство, единодушно утвержденное народом в дни единения и славы; как рабы сохраняют верность своему господину, так я сохранил ее великому народу, великодушно принявшему меня в свою среду и торжественно сообщившему мне в дни свободы свою волю».
Глубоко взволнованная масса граждан из Вандома и его окрестностей усердно присутствовала на заседаниях верховного трибунала. Эти часто повторявшиеся пылкие нападки на правительство, эти убедительные доводы, по отношению к которым обвинители не всегда выходили победителями, эта открытая защита наиболее популярных событий революции, эта горячая привязанность к правам и интересам народа, эти свидетели противной стороны, отказавшиеся говорить и свидетельствовавшие свое уважение тем, против кого их заставляли выступать, эти преданные семьи, присутствовавшие при борьбе, исхода которой они ожидали с трепетом, — все это, к выгоде обвиняемых, внушило зрителям жгучий интерес; этот интерес еще более возрастал благодаря ежедневным статьям одного журнала и благодаря разговорам местных жителей, занятых почти исключительно тем, что происходило на суде.
К этому благоприятному отношению вскоре присоединилось желание спасти наиболее замешанных в дело обвиняемых от очевидно угрожавшей им опасности. С одной стороны, были сделаны тайные попытки произвести в их пользу восстание среди части охранявших их солдат; но эти попытки не имели успеха. А с другой стороны, была мысль способствовать тайному бегству.
При помощи нескольких украдкой принесенных в тюрьму инструментов арестанты проделали в короткий срок широкое отверстие, через которое должны были скрыться от своих палачей те, кому было чего бояться; но неосторожное поведение одного из обвиняемых вызвало тревогу и разрушило всякую надежду на бегство.
Произнесенные в заключение дебатов длинные речи правительственных обвинителей предавали смерти около тридцати человек. Захваченные документы были так многочисленны и так содержательны, что было легко установить правдивость доноса и доказать существование заговора. Однако обвинителям не удалось доказать, что этот заговор был преступным.
Обвиняемые многократно доказывали, что само предположение о существовании заговора еще не говорит об его преступности, потому что та конституция, против которой он, по-видимому, возник, не была действительным законом, так как она противоречила суверенитету народа и не была им принята.
На этот главный и решающий пункт обвинители не ответили ничего и, ограничиваясь фактами, постарались устранить какие бы то ни было споры о правоте намерений. Оставляя самое главное возражение в стороне, они развлекались опровержением тех, которые им казались наиболее слабыми, и особенно стремились запугать робкие души преувеличенными описаниями способов выполнения заговора, а также клеветой относительно намерений обвиняемых и фантастической картиной последствий, ложно выведенных из их планов.
Действительно, ничто не казалось более экстравагантным, чем это заключение, утверждающее недопускающим возражения тоном, что пользование народа своим суверенитетом и равенством неизбежно должно было привести к опустошению, вымиранию и безвыходности положения Франции, а следовательно, мало-помалу и к возвращению королевской власти.
Было бы так же бесполезно, как и скучно, подробно излагать данные обвиняемыми вынужденные объяснения относительно выставленных против них документов, или приводить запирательства, которыми они отвергали доводы доносчика и те легкие противоречия, в которые тот впадал, благодаря слабости памяти или из желания казаться более предусмотрительным, более хитрым, чем он был на самом деле.
В целом донос был верен, — заговор существовал, и главные обвиняемые отрицали его существование, творя святую ложь, от которой они не ждали никакого успеха и за которую в душе краснели.
Но чего нельзя обойти молчанием, так это той части их общей защиты, в которой обсуждались принципы общественных прав французов; тут революция была оправдана в своем величайшем стремлении к равенству и к народному суверенитету.
Поэтому мы дадим краткий конспект этой части защиты, чтобы ознакомить с теми чувствами, которым обвиняемые остались верны до последней минуты.
По плану обвинителей и суда присяжные заседатели должны были ограничиться рассмотрением вопроса, действительно ли было нанесено оскорбление конституции III года, причем они стремились помешать обвиняемым обсуждать ее законность.
Однако наиболее замешанные в дело обвиняемые не перестали развивать и оправдывать принципы, исповедуемые ими с таким жаром, потому что они находили их правильными и согласующимися со всеобщим благом; только в них видели они истинные средства к защите себя в глазах народа и народных судей.
Сначала они обратились к совести судей, чтобы пробудить в их душах благородное чувство независимости; они попытались убедить их, что возвышенность их миссии предписывает им смотреть в корень вещей, подняться выше конституции III года, подвергнуть вопрос об ее происхождении и сущности самому строгому рассмотрению и руководиться в своих решениях подлинными правами народа, а не притязаниями существующей власти, вовсе не им созданной.
«С этим процессом дело обстоит не так, как с обыкновенными процессами, — говорил один из обвиняемых. — Сила обвинителей, слабость и не влиятельность обвиняемых должны вызвать самое глубокое внимание верховных судей к обстоятельствам, чуждым обычному ходу процессов. Граждане, угнетенные не напрасно будут говорить перед вами против жестокости своих угнетателей; не напрасно святой энтузиазм свободы потребует от вас уважения и справедливости к тем священным принципам, которым мы обязаны уничтожением привилегий, падением трона и стремлением общественного мнения к равенству в правах... Народ доверил вам узнать добро, а не приспосабливать сухие юридические формулы к планам честолюбцев и глупцов. Представители народа, будьте им самим; чтобы выражать его волю, надо иметь его сердце».
Прежде чем начать доказывать, что истинным законом французов была конституция 1793 года и что конституция III года только акт грабежа и насилия, обвиняемые задались целью рассеять тот ужас, которым обвинители старались окружить демократический закон и тех, кто оставался ему верен; обвинители достигали этого преувеличенными описаниями строгости революционного строя, с которым они этот закон якобы смешивали.
«Вы постоянно вспоминаете, — говорили подсудимые, — мероприятия 1793 года, но вы обходите молчанием то, что предшествовало несчастной необходимости, заставившей употребить их.
Вы забываете напомнить Франции о бесчисленных изменах, вызвавших гибель стольких тысяч граждан; вы забываете сказать ей об ужасающих успехах войны в Вандее, о сдаче наших пограничных местностей, об измене Дюмурье [XLV] и о возмутительном покровительстве, найденном ими даже в Национальном конвенте; вы забываете напомнить о неслыханных жестокостях, с которыми грубые вандейцы разрывали на части и заставляли умирать в самых утонченных мучениях защитников отечества и всех, кто сохранял какую-либо привязанность к Республике. Если вы вызовете тени жертв печальнейшей суровости, возбужденной все возрастающей опасностью для отечества, мы выроем трупы французов, убитых контрреволюционерами в Монтобане [XLVI], в Нанси [XLVII], на Марсовом поле [XLVIII], в Вандее, в Лионе, в Марселе, в Тулоне; мы разбудим тени миллиона республиканцев, послуживших у границ богатой жатвой для сторонников тирании, ведущей ради самой себя постоянные заговоры даже внутри Франции; мы уравновесим кровь, пролитую из холодного расчета вашими друзьями, кровью, пролитою, к сожалению, патриотами в пылу защиты и в возбуждении любви к свободе. Нас или свободу берутся преследовать обвинители?
Их ожесточение будет нам небесполезно; и верховные судьи, без сомнения, отличат в пристрастности их описаний и в притворстве, с которым они искажают историю и обрушивают на головы обвиняемых чуждые им факты, ту тайную ненависть, которую враги Республики (более ловкие, чем мы) питают к своим бесстрашным и слишком доверчивым недругам».
Двумя главными пунктами обвинения, против которых обвиняемые должны были защищаться, являлись следующие: организация союза 1) с целью низвержения конституции III года для замены ее конституцией 1793 года и 2) с целью покушения на частную собственность путем установления общности имущества.
«Конечно, — говорили они, — мы любим конституцию 1793 года; мы ее любим, потому что она гарантирует народу непоколебимое право обсуждения законов; мы её любим, потому что она была торжественно принята французским народом почти единодушно».
«Конечно, — добавляли они, — мы и теперь рассматриваем этот закон, как настоящий основной закон Франции, потому что закон III года лишил народ фактического права на суверенитет и потому что неправда, будто тот же народ принял и его».
Доводы и соображения, которыми обвиняемые доказывали истинность своих утверждений, были столь убедительны, что после долгих доказательств с той и другой стороны, обвинитель Вьеяр признал себя побежденным, сказав: «Впрочем, я уступаю».
«Не хотят ли, — продолжали обвиняемые, — чтобы мы обратили внимание народа на это странное нарушение его прав? В этом мы только воспользовались нравом свободы слова, гарантируемым конституцией III года всем французам.
Не думают ли, что мы объединились затем, чтобы волей или неволей восстановить конституцию 1793 года, которую мы считаем священной охранной грамотой общественной свободы? Прежде всего: это отрицаемое нами объединение не доказано, достаточно одного отсутствия средств выполнения, чтобы устранить всякое подозрение в опасности и преступности такого заговора. Но если бы мы действительно сделали заговор с целью восстановления конституции 1793 года, мы только повиновались бы истинному закону, мы делали бы то, что обязан делать каждый гражданин, мы только выполнили бы клятву быть верными свободе, народному суверенитету и Республике».
Между тем как обвинители и трибунал полагали, что присяжные должны ограничиться рассмотрением вопроса, существовало ли намерение совершить покушение на конституцию III года, обвиняемые доказывали, что, если во что бы то ни стало, хотят видеть в них заговорщиков, то во всяком случае их заговор не является преступлением, потому что власть, против которой он, казалось, был направлен, не была законной, как непринятая народом. Как раз к этому недостатку законности обвиняемые настойчиво привлекали обсуждение судей.
Что касается намерения установить общность имущества, то обвиняемым не было необходимости долго его оспаривать, так как прокламации содержавшие последовательный план законодательства, не были захвачены, и ничего из этой области в присутствии доносчика не говорилось, а потому эта часть обвинения оказывалась слабой. Однако Бабёф, часто бравший эту общность темой для своего «Народного трибуна», не упустил случая поговорить и о ней. Он изложил по этому вопросу свои демократические мнения и защищал их отвлеченными рассуждениями, а также описанием неизбежно потрясающих общество бедствий и ссылками на крупные авторитеты. «Собственность — говорил он, — является причиной всех бедствий на земле».
«Проповедью этого издавна провозглашаемого мудрецами учения я хотел внушить любовь к Республике населению Парижа, уставшему от революций, упавшему от несчастий духом и почти роялизованному благодаря проискам врагов свободы». Бабёф так окончил свою защитительную речь:
«Если моей голове угрожает топор, ликторы найдут меня совсем готовым; умереть за дело добродетели — почетно... Приговор судей решит такой вопрос: останется ли Франция Республикой [48], или же станет добычей разбойников, которые разорвут ее на части; и вернется ли монархия?..
Граждане присяжные, осудите ли вы людей, которые руководились одной лишь любовью к справедливости? Хотите ли вы ускорить контрреволюцию и гибель патриотов под кинжалами торжествующих роялистов? Однако, если наша смерть решена, если уже прозвучал для меня роковой колокол, я давно покорился своей участи. Постоянно в течение этой долгой революций являясь жертвой, я привык к мучениям. Тарпейская скала всегда стояла перед моими глазами, и Гракх Бабёф слишком счастлив умереть за свою страну. Что ж! вникнув во все, чего мне не хватает, чтобы утешиться? Могу ли я ожидать, что окончу когда-либо мою карьеру в более прекрасный момент славы? Я испытал бы перед своей смертью ощущения, редко переживавшиеся людьми, посвятившими себя человечеству... власть, бывшая очень сильной, чтобы так долго нас угнетать, почти перестала быть таковой, чтобы нас опозорить! Мы увидели, как истина всплывала изо всех речей, чтобы еще при нашей жизни запечатлеть факты, которые нас прославляют и будут вечным позором для наших преследователей. История отметит наши имена почетными чертами. Кто те люди, вместе с которыми меня рассматривают, как преступника! Это Друэ, это Лепелетье! О, дорогие Республике имена! Так вот кто мои сообщники! Друзья, наиболее тесно окружающие меня на этих скамьях, еще кто вы?... я узнаю вас: почти все вы основатели, твердая опора этой Республики; если осудят вас, если осудят меня, ах! я это вижу, мы являемся последними французами, мы — последние республиканцы... ужасный королевский террор повсюду пройдет со своим кинжалом. Не лучше ли сохранить славу, что мы не пережили рабства, что мы умерли за то, что хотели предохранить от него наших сограждан! О, мои дети (слезы потекли из его глаз), одно горькое сожаление приходится мне выразить вам: это что, глубоко желая содействовать завещанию вам свободы, этого источника всех благ, я и после себя вижу рабство, и я оставляю вас жертвою всяческих бедствий. Мне нечего вам завещать! я даже не хотел бы завещать вам мои гражданские добродетели, мою глубокую ненависть к тирании, мою горячую преданность делу равенства и свободы и мою пламенную любовь к народу: я сделал бы вам слишком печальный подарок. Что делали бы вы с ним, находясь под королевским гнетом, который неминуемо утвердится. Я оставляю вас рабами, и это — единственная мысль, которая будет терзать мою душу в последние минуты моей жизни. При таком положении я должен бы дать вам совет об искусстве более терпеливо носить свои цепи, но я чувствую, что я не способен на это».
К первоначальным вопросам, подлежавшим обсуждению присяжных и касавшимся только наличности заговора и причастности к нему каждого из подсудимых, трибунал, по ходатайству председателя суда присяжных, добавил новые вопросы, касающиеся письменного или устного подстрекательства к восстановлению конституции 1793 года. Это дополнение изменило содержание обвинения, факт тем более противозаконный, что он передавал на рассмотрение присяжных такие рукописи, о которых партии никогда не дозволялось давать объяснения [49]. Обвиняемые горячо, но безуспешно восставали против способа постановки вопроса о намерениях, — в нем они видели доказательство злобной пристрастности. Закон предписывал суду под страхом аннулирования его решений, чтобы он, объявив факт установленным, а обвиняемого уличенным, во всех случаях добавлял: «Мне кажется, или мне не кажется, что такой-то поступок совершен злостно и преднамеренно». Как раз на сохранении выражения «злостно» особенно и настаивали подсудимые, потому что в этом они находили обращенное к присяжным предложение рассмотреть законность тех мотивов, которыми они условно оправдывали заговор.
По поводу вопроса о намерениях обвиняемые, обращаясь к присяжным, высказывались таким образом: «Загляните в ваши сердца, вы услышите в них глухой взывающий к вам голос: ведь эти люди думали только о счастье своих ближних... Революция была не для всех игрой личных интересов. Граждане присяжные, проникнитесь тем, что были люди, рассматривавшие ее как событие, важное для всего человечества; убедитесь, что она стала для них новой религией, ради которой они сумели, совершенно забывая о себе, пожертвовать условностями, имуществом, спокойствием и жизнью. Поразить друга свободы — это значит протянуть руку королям... Вы судите свободу: она была богата мучениками и мстителями за них. Свобода умирает, когда благородные чувства подавляются, когда воодушевленным ею людям показывают окровавленные головы тех, кто за нее пожертвовал собою. Обвинители полагали, что если даже наши доводы правильны, все же присяжные не должны останавливаться на мотивах, которые могли бы характеризовать обвиняемых, и видеть в их намерениях что-либо иное, чем желание свергнуть конституцию 1795 года. Если принять это странное предположение, то во Франции нет больше ни института присяжных, ни отечества. Прежде всего следовало бы обратить внимание присяжных не на низвержение действующей конституции, а на низвержение законной власти; потому что могут ли они признать виновным того, кто, действуя против теперешнего правительства, твердо верил, что он действует на пользу истинного закона? К чему свелась бы тогда забота закона примирить вопросами о намерениях и о смягчающих обстоятельствах столь частые противоречия между предписаниями естественного закона и правилами положительных законов? К чему свелось бы то внутреннее чувство добра или зла, которое делает институт присяжных столь денным для чистых душ? К чему свелся бы верховный закон пользы для народа, повелевающий его представителям считать главным в сердце этих подсудимых любовь к отечеству и преданность ему?»
Несколько присяжных присоединилось к просьбе обвиняемых, чтобы вопросы о намерениях были поставлены согласно форме, предписываемой законом, но это оказалось напрасным. Верховный суд, настаивая на своей системе, ограничил эти вопросы следующими выражениями: участвовал ли подсудимый в заговоре или подстрекал к нему, имея намерение участвовать в нем или подстрекать к нему? Таким образом запрещалось какое-либо рассмотрение, касающееся моральной стороны дела.
Всего было шестнадцать присяжных; для оправдания было достаточно четырех, но только трое постоянно оказывались на стороне обвиняемых; в их числе находился Готье Биоза, которого мы называем, так как мы знаем, что он уже кончил свою жизнь; он остался верен народу, и не за ним стало дело, чтобы никто не был осужден.
Однако все вопросы относительно заговора были решены отрицательно. Но, к несчастью, тринадцать присяжных признали, что существовало устное и письменное подстрекательство к восстановлению конституции 1793 года и что Бабёф, Дартэ, Буонарроти, Жермен, Казен, Моруа, Блондо [50], Менесье и Буен были к нему причастны; двое первых — без смягчающих обстоятельств, а остальные — с таковыми.
На заре 7 прериаля V года бой барабанов, артиллерии и необычайное движение войск дали почувствовать населению Вандома финальную развязку той драмы, которой они были зрителями.
Семи вышеназванным присутствовавшим здесь обвиняемым все говорило об их близком конце; в последний раз появились они перед погруженным в мрачное молчание судом; многочисленная, встревоженная толпа наполняла зал, все проходы которого охранялись большой военной силой.
Вслед за роковым оповещением, взволнованно произнесенным председателем суда присяжных, обвинители потребовали смертной казни двум обвиняемым и ссылки всем остальным.
Тогда была сделана последняя попытка: один из обвиняемых при поддержке защитника потребовал от трибунала всеобщего оправдания. Это мотивировалось тем, что восстанавливаемый обвинителями закон 27 жерминаля IV года противоречил закону о печати и потому являлся недействительным в силу того пункта конституции, который гласил, что всякий такого рода закон действует не больше года.
Трибунал не обратил на это никакого внимания.
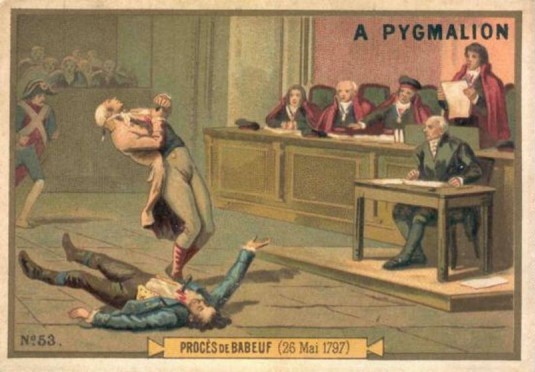 |
Бабёфу и Дартэ было сказано: «Умрите», а семи остальным: «Влачите жизнь, полную несчастий, вдали от родины, в знойном и убийственном климате».
Моментально поднимается большой шум: Бабёф и Дартэ ранят себя; со всех сторон крики: «Их убивают». Буонарроти протестует и призывает к тому же народ; среди зрителей движение, которое тотчас останавливается сотней направленных на них штыков; жандармы хватают ссыльных, угрожают им саблями и уводят их с глаз публики вместе с их умирающими товарищами.
Непрочность сломавшихся кинжалов не позволила двум приговоренным к смерти лишить себя жизни. Они провели тяжелую ночь, страдая от ран, которые они себе нанесли; в ране Бабёфа железо так и осталось внутри около сердца!
Мужество им не изменило, и сильные духом они пошли на казнь, как на триумф. Уже готовясь принять роковой удар, Бабёф начал говорить о своей любви к народу, ему он поручал свою семью.
Когда благородные защитники равенства ушли из жизни, весь Вандом покрылся трауром; их обезображенные тела, которые варвары велели бросить в живодерню, были благоговейно погребены пригородными крестьянами. После приговора суда присяжных, Бабёф написал своей жене и детям следующее трогательное письмо:
 |
«Здравствуйте, друзья мои! Я готов перейти в вечную ночь. Я лучше выражаю тому другу, которому я посылаю два письма, которые вы увидите, ему я лучше, чем вам самим, выражаю мое отношение к вам. Мне кажется, что, чувствуя слишком много, я уже не чувствую ничего. Я передаю вашу судьбу в его руки. Увы! я не знаю, будет ли он в состоянии исполнить мою просьбу; я не знаю, как вы сможете его отыскать. Ваша любовь ко мне проводила вас сюда через все препятствия, вызванные нашим несчастьем; вы оставались здесь среди горя и лишений; ваша неизменная отзывчивость заставила вас пройти через все этапы этой долгой и жестокой процедуры, горькую чашу которой вы выпили подобно мне; но я не знаю, как вы поступите, чтобы вернуться туда, откуда вы прибыли; я не знаю, какая останется обо мне память, хотя я думаю, что я вел себя самым безукоризненным образом; наконец я не знаю, что станется со всеми республиканцами, с их семьями, с их грудными детьми среди того ужаса роялизма, который будет принесен контрреволюцией: о, друзья мои! как эти мысли раздирают в последние минуты мою душу. Умереть за отечество, бросить семью, детей, любимую супругу — все это было бы легче снести, если бы в конце всего я не видел гибели свободы, если бы я не видел всего искренне республиканского жертвой ужаснейших преследований. Ах! мои нежные дети, что с вами будет? Здесь я не могу удержаться от сильнейшего прилива чувств... Не думайте, что я жалею о том, что жертвую собой за прекраснейшее дело: если бы даже вся моя деятельность оказалась для него бесполезной, все же я исполнил свой долг...
Если, вопреки моему ожиданию, вы будете в состоянии пережить ужасную грозу, надвигающуюся теперь на Республику и на всех, кто ей предан; если вы будете в состоянии найти спокойную обстановку и разыскать нескольких друзей, которые помогли бы вам выйти победителями из вашего бедственного положения, я посоветовал бы вам жить в тесной близости; я советую моей жене стараться воспитывать своих детей очень мягко; моим детям я советую заслужить доброе отношение их матери, почитая ее и всегда ей повинуясь. Семье мученика за свободу надлежит быть примером всех добродетелей и таким образом приобрести уважение и привязанность всех честных людей. Я хотел бы, чтобы моя жена сделала все, что только можно, чтобы обучить своих детей; пусть она обращается к своим друзьям, чтобы они помогали ей, в чем могут. Я прошу Эмиля пойти навстречу желанию отца, которого, я надеюсь, он очень любит и который так любил его; я его прошу начать исполнять это желание, не теряя времени, возможно скорее.
Друзья мои, я надеюсь, что вы будете вспоминать обо мне и что вы будете часто обо мне говорить. Я надеюсь, что вы верите, что я всех вас очень любил. Я не представлял себе, как я мог бы сделать вас счастливыми иначе, как через всеобщее счастье. Мне не повезло; я приношу себя в жертву, я умираю и за вас.
Побольше рассказывайте обо мне Камилю; тысячу и тысячу раз повторяйте ему, что я нежно хранил его в своем сердце.
Столько же говорите об этом и Каю, когда он уже будет в состоянии это понять.
Лебуа сообщил, что он отдельно напечатает наши защитительные речи; моя должна получить возможно больше гласности. Я советую моей жене, моей доброй подруге, не передавать ни Бодуэну, ни Лебуа, ни кому-либо другому никакой копии с моей защитительной речи, не имея с нее другой очень точной копии, чтобы таким образом быть уверенными, что эта защитительная речь никогда не потеряется. Ты узнаешь, мой милый друг, что эта защитительная речь — драгоценна, что она всегда будет дорога благородным сердцам и друзьям их страны.
Единственное остающееся тебе от меня имущество — это моя репутация. И я уверен, что ты и твои дети, пользуясь ею, найдете в ней большое утешение. Вам будет приятно слышать, как все чуткие и прямые люди будут говорить о вашем супруге, о вашем отце:
Он был безупречно честен.
Прощайте. Я связан с землею только одной нитью, которая уже завтра оборвется. Это несомненно, я слишком хорошо это вижу. Надо принести жертву. Злые оказались сильнее, я им уступаю. Но по крайней мере приятно умереть с такой чистой совестью, как моя. Самое жестокое, самое душераздирающее — это вырвать меня из ваших объятий, о, мои нежные друзья! о, всё, что у меня есть самого дорогого! Я вырываюсь из этих объятий; насилие совершено. Прощайте, прощайте, прощайте, десять миллионов раз прощайте.
... Еще одно слово. Напишите моей матери и моим сестрам. Пошлите им с посыльным или как-нибудь иначе мою защитительную речь, как только она будет напечатана. Расскажите им, как я умер, и постарайтесь дать им понять, этим добрым людям, что подобная смерть — славна, что она далеко не позорна.
Прощайте же еще раз, мои милые, дорогие, мои нежные друзья. Прощайте навсегда. Я погружаюсь в сон честного человека».
Пятьдесят шесть подсудимых были оправданы; в их числе находился бывший член Конвента Вадье, по отношению к которому верховный суд принял меру, жестокая несправедливость которой должна быть отмечена. Этот несчастный старик, благодаря честности, с которой он нес до термидора трудные обязанности председателя Комитета общественного спасения, навлек на себя слепую ненависть врагов революции и справедливости, и едва избежал он их кровавого преследования, как был найден новый предлог опять подвергнуть его преследованию.Хотя он ничего не знал о заговоре и был вне всяких подозрений, он был арестован; с тысячью опасностей его перетащили из Тулузы в Париж, обвинили и перевезли в Вандом. В продолжение суда он напрасно пытался оправдать свое общественное поведение, его лишали слова. Однако пришлось его оправдать, но, оправдывая его, постановили, что его пребывание в тюрьме должно продолжаться, причем сослались на то, что существовал приказ Конвента, отправлявший его в ссылку. Верить ли? Этот приказ был отменен, и его больше не существовало. И из-за фактической ошибки, которую так легко было проверить, те самые члены первого трибунала Республики, которым закон приписывал дар непогрешимости, произвольно и не спрашивая ни о чем заинтересованную сторону, наложили очень тяжелое наказание, которое оказалось весьма продолжительным и которое было бы бесконечным, если бы великое преступление 18 брюмера не положило ему конца [XLIX].
Вскоре после этого пятеро оказавшихся налицо ссыльных были заброшены вместе с Вадье на форт на острове Пеле, у входа на рейд в Шербурге. Они провели этот длинный путь в кандалах и заключенные в клетки с решетками, то подвергаясь оскорблениям и угрозам, то получая самые трогательные знаки сочувствия и уважения. В Фалезе, в Каенне и в Валони им пришлось пережить большую опасность, но в Мелеро, в Аржантане и в Сен-Ло их приняли дружески и с почетом. В последнем городе мэр во главе всего муниципального корпуса приветствовал их и обнял, называя их «наши несчастные братья». «Вы защищали, — сказал он, — права народа, и всякий хороший гражданин обязан вам любовью и благодарностью». По постановлению Генерального совета они были помещены в зале заседаний, где им оказали материальную помощь и осыпали утешениями.
Долго добрые жители Вандома с умилением показывали путникам последнюю обитель мучеников за равенство.
 |
Примечания
[1] Под этим названием я подразумеваю тех писателей и администраторов, которые хотели регламентировать промышленность и торговлю, а также и тех, которые стояли за предоставление таковым самой широкой свободы. — Прим. Буонарроти.
[2] Монтескьё. Дух законов. Кн. IV, гл. VI. — Прим. Буонарроти.
[3] Мабли. Принципы законодательства. — Прим. Буонарроти.
[4] Эта партия была названа жирондистской, потому что как в Законодательном собрании, так и Конвенте она признавала своими вождями почти всех депутатов от департамента Жиронды. Когда Учредительное собрание провозгласило первую декларацию прав, уже тогда люди, введенные в заблуждение ложной наукой или развращенные пороками цивилизации, почувствовали отвращение к полному и открытому применению принципов естественной справедливости, некоторые из которых освящались этой декларацией; с тех пор они все обдумывали, как им обойти эти принципы, делая вид, что они их приветствуют.
Оттуда-то и ведут свое происхождение те партии, которые при первых трех национальных собраниях старались остановить порыв французского народа к своему полному освобождению и прикрепить революцию к тем политическим системам, которые они находили наиболее благоприятными их страстям или наиболее соответствующими их теориям. Они вредили установлению свободы гораздо больше, чем открытая оппозиция привилегированной касты, потому что они обманывали народ, заимствуя у патриотов их язык. — Прим. Буонарроти.
[5] 31 мая 1793 года и в последующие дни. — Прим. В. В. Святловского.
[6] Вот где сказывается дурное влияние Руссо, виновника религиозной реакции против философии восемнадцатого века. Пропитанный религиозными принципами Руссо, Буонарроти не дает себе отчета в том, что Робеспьер, устанавливая праздник Верховного Существа и поражая в лице эбертистов атеизм, поражал самое свободу мысли и подавал сигнал к контрреволюции. — Прим. А. Ранка.
[7] В одном из своих довольно длинных замечаний о революционных партиях Буонарроти высказывается по вопросу об эбертистах таким образом:
«Вообще в рядах эбертистов числились только люди трудолюбивые, прямые, откровенные, мужественные, не ученые, чуждые политическим теориям, любящие свободу по душевному влечению, восторгавшиеся равенством и нетерпеливо стремящиеся пользоваться им, так как они являлись бы хорошими гражданами в демократической республике, уже ставшей на ноги, но были плохими пионерами в бурях, предшествующих установлению ее, то было нетрудно восстановить их против продления революционного строя, изображая его виновником покушений на народный суверенитет. Не менее легко было убедить их в том, что, чтобы навсегда уничтожить источник суеверий и могущества духовенства, следует изгнать все религиозные идеи. Однако подобные люди, более настроенные разбивать препятствия кулаками, чем зрело взвешивать полезность следствия политического кризиса, имели в виду тот же результат, к которому стремились и разумные друзья равенства».
Эта дань уважения эбертистам имеет большое значение, будучи высказана таким человеком, как Буонарроти, который был достаточно сильно привязан к Робеспьеру. — Прим. А. Ранка.
[8] Этот Леблан, имя которого постоянно встречается в документах процесса, веденного против Бабёфа, был одной из жертв ссылки в месяце нивозе. Известно, что только четверо ссыльных выжили в убийственном климате острова Анжуан [L]. Леблан был одним из этих четырёх. Как раз по его запискам была издана очень любопытная, но, к несчастью, очень редкая книга, появившаяся в 1819 году под заглавием: «История двойного заговора 1800 года против консульского правительства и ссылки, имевшей место во 2-й год Консульства». — Прим. А. Ранка.
[9] Феликс Лепеллетье, который был, как мы увидим далее, включен в число лиц, преследовавшихся верховным судом в Вандоме, и оправдан присяжными, и который по приказанию Наполеона содержался после нивоза [LI] в течение 2 лет на острове Олерон [LII], был братом Лепелетье Сен-Фаржо [LIII]. Он взял к себе детей Бабёфа. Он был очень богат и в течение всей Империи оказывал помощь и поддержку преследуемым республиканцам. — Прим. А. Ранка.
[10] Все депутаты, еще стоявшие на стороне политических прав, освященных конституцией 1793 года, были устранены из Конвента путем казней и арестов. — Прим. А. Ранка.
[11] Когда прозвучали первые ружейные выстрелы, правительственные комитеты предложили Конвенту разоружиться, а республиканцев, вооружившихся для самозащиты, вновь вернуть в тюрьмы. — Прим. Буонарроти.
[12] Гракх Бабёф родился в 1762 году в Сен-Кантоне, в департаменте Эн. Он был чуток по характеру, образован и неутомим; обладал проницательным и точным умом; писал ясно, пламенно и красноречиво.
Французская революция застала его молодым, погруженным в учение, ведущим скромный образ жизни, ненавидящий тиранию и обдумывающим способы освобождения своих несчастных соотечественников; он рано почувствовал потребность пожертвовать собою для свободы общества.
В начале революций Бабёф, как свободный человек, писал против феодального режима и против фиска, что вызвало преследования и приказы об аресте, действие которых было пресечено только благодаря живейшим настояниям Марата.
Позднее он был приглашен в секретариат управления дистриктом, где его речи и его сочинения для народа создали ему много врагов, имевших достаточно влияния для того, чтобы подвергнуть преследованиям и осудить как фальшивомонетчика; но вынесенный ему приговор был отменен Конвентом, торжественно признавшим несправедливость этого приговора. Затем Бабёф служил в канцелярии Парижской коммуны, где он подружился с многими мужественными республиканцами.
После роковых событий 9 термидора, Бабёф одно время приветствовал снисходительность, применявшуюся к врагам революции, но его заблуждение, было непродолжительным; тот, кто принял Гракхов за образец для себя, не замедлил заметить, что никто не походил на этих знаменитых римлян меньше, чем правители после термидора. Стоявший выше своих ошибок Бабёф сознался в своем заблуждении, потребовал возвращения народу его прав, сорвал маску с тех, кем был обманут, и завел свое рвение в пользу демократии так далеко, что аристократы, управлявшие Республикой, не замедлили заключить его в тюрьму.
Из тюрьмы в Плесси, где он сначала содержался, его перевели в тюрьму г. Аррас, там он познакомился с Жерменом из Нарбонна, капитаном гусаров, о котором часто будет говориться в этой работе, и со многими, республиканцами департамента Па-де-Кале. Бабёф был среди них неутомимым проповедником народных учреждений, он разжигал ненависть против новых тиранов, ознакомлял с идеей великой революции в области собственности и склонял к образованию плебейской Вандеи, чтобы насильно добиться того, получение чего путем просьб ему не представлялось возможным.
По своем возвращении из Плесси, после восстания в прериале III года, Бабёф весь ушел в подобные проекты; зрело обдумать их ему помогли его постоянные разговоры с некоторыми из заключенных там граждан; он познакомился там с Лебоном [LIV], который, проведя всю свою жизнь в рассмотрении причин общественных бедствий, лучше чем кто-либо воспринял глубокие взгляды Робеспьера.
Ниже будет видно, насколько идеи Бабефа развились и насколько он принимал участие в заговоре, с которым связано его имя. Этот необыкновенный человек, одаренный большими способностями и непоколебимый друг справедливости, всегда был бескорыстен и беден; хороший супруг и нежный отец, он пользовался обожанием своей семьи; мужество, с которым он в присутствии своих судей нападал на правителей, требовавших его головы, и спокойствие, с которым он взирал на славную смерть, уготованную ему аристократами, еще более усиливают блеск достоинств и патриотических трудов этого знаменитого мученика на равенство. — Прим. Буонарроти.
[13] Огюстен Александр Дартэ родом из Сен-Поля в департаменте Па-де-Кале. Человек образованный, справедливый, смелый, постоянный, деятельный, непреклонный и способный очень хорошо разъяснять и заинтересовывать своими мнениями встречающихся с ним людей. Он изучал в Париже право, когда вспыхнула революция, и он, едва увидев ее зарево, устремился в нее с увлечением человека, самоотверженно защищающего истину. В 1789 году Дартэ содействовал освобождению французской гвардии, взятию Бастилии, когда его захватил неизлечимый недуг, и осаде Венсеннского замка. Затем он стал членом директории своего департамента и в качестве такового оказал Республике, находившейся в очень затруднительном положении, столь важные услуги, что был вознагражден за них декретом, объявлявшим, что он «весьма отличен отечеством». Наконец, он получил должность общественного обвинителя при революционных трибуналах Арраса и Камбре, суровости которых мы в значительной мере обязаны сохранением этой границы; здесь он выказал себя неподкупным республиканским чиновником и бесстрашным воином.
Преследование в термидоре, которого он не мог избежать, застало его в почетной бедности. Дартэ рано усвоил взгляды Робеспьера и следовал им изо всех своих сил; последний придавал этому большое значение, а враги равенства питали к нему беспощадную ненависть. С большим образованием и с пламенной страстью к истинной справедливости Дартэ соединял строгий образ жизни и отзывчивое сердце. Преданный верховному суду в Вандоме, он все время отказывался признать его и защищаться; приговоренный к смерти, он и последнее минуты своей жизни посвятил отечеству. — Прим. Буонарроти.
[14] Бертран де Лион был мэром той коммуны, где имело место восстание 29 мая 1793 года; он находился в ней до этого восстания, а также после возвращения этой коммуны под законы Республики.
Бертран роздал свое большое богатство на пользу революции; он был справедлив, лоялен, великодушен, преисполнен мужества и приятности в обращении; образ его жизни был прост, и его лицо носило отпечаток душевной чистоты. Богачи Лиона приготовили ему ту же участь, что и его другу Шалье; но их старания были тщетны; народ отвечал громкими рыданиями и благословениями на призывы Бертрана, напоминавшие об его самоотвержении и об его услугах несчастным, и потому судьям, которые должны были предать его смерти, пришлось отсрочить приговор и отправить обвиняемого в тюрьму, где он оставался в течение долгой осады своей коммуны.
В самое 9 термидора был отдан приказ схватить Бертрана и многих других лионских демократов и отправить их в Париж.
Они так были известны своей чистотой и твердостью, что их цепи были разбиты только после 13 вандемьера IV года.
Бертран, страстно любящий людей, отечество и свободу, строгий защитник равенства, популярный и неподкупный чиновник, хороший сын превосходный друг, был убит военносудной комиссией Тампля после резни в Гренелльском лагере [LV]; он спал, когда пришли взять его на казнь.
Этот хороший и честный гражданин, который был арестован безоружный и далеко от Гренелльского лагеря, был бы согласно заключению докладчика присужден только к тюремному заключению или к ссылке, если бы Исполнительная директория не поспешила предупредить комиссию о желательности его смерти.
При виде удостоверения о подаче апелляций Фортраном и его товарищами по несчастью, генерал Фуассак ла Тур приостановил исполнение смертных приговоров; сообщив об этом Директории, он немедленно получил от нее приказание перейти к делу.
Жертвы были убиты. Несколько месяцев спустя кассационный трибунал отменил все приговоры, осудившие их. — Прим. Буонарроти.
[15] Тогда Г. Бабёф оказался обязан свободой рыночным носильщикам. Когда к нему на улицу Фобур-Оноре № 29 явился судебный пристав с предписанием забрать его — что мотивировалось подстрекательским характером его сочинений, — то Бабёф сумел после долгой борьбы бежать от него; судебный пристав погнался за Бабёфом, крича: «Держи вора». Два раза рыночные носильщики схватывали его и два раза отпускали при одном имени писателя, защищавшего права народа. Дидье и Дартэ укрыли его в бывшем монастыре Успения. — Прим. Буонарроти.
[16] Массар, оправданный на суде, был экс-адъютантом армии; в нивозе его перевезли на Сейшельские острова [LVI], где он и умер. — Прим. А. Ранка.
[17] В документах процесса находится очень любопытное письмо одного из обвиняемых Бодсона к Бабёфу. Бодсон советует равным опираться на остатки Парижской коммуны. За этим последовал довольно оживленный спор между Бабёфом и Бодсоном относительно процесса эбертистов. — Прим. А. Ранка.
[18] Амар сделал несколько денежных пожертвований в пользу демократического заговора и, не переставая работать в нем вплоть до момента, когда был втянут в обвинение, направленное против вождей заговора. — Прим. Буонарроти.
[19] Еще один из сосланных в нивозе! Бонапарт, как видно, хорошо умел выбирать, Матюрен Буен, бывший мировой судья, был приговорен верховным судом в Вандоме к ссылке, но только заочно. После дела с адской машиной [LVII], в котором он был так же невиновен, как и его товарищи по ссылке, он был отправлен на остров Анжуан, где и умер. — Прим. А. Ранка.
[20] Декреты 8 и 14 вантоза II года. — Примеч. А. Ранка.
[21] Национальные имущества шли с самого начала на погашение старого общественного долга, выраженного в государственных рентах, и нового, представленного в бумажных деньгах, известных под названием ассигнаций; эти имущества стали страшно расхищаться, когда после 9 термидора было позволено покупать их не с публичного торга и без публикаций, а просто по объявленной цене, и платить за них бумагами, почти не имевшими никакой ценности, по расценке, сделанной раньше в звонкой монете. Отсюда и из хищений людей снабжавших армию провиантом, произошли те колоссальные богатства и та безудержная роскошь, которые так сильно способствовали затем полному разорению Республики.
Пантеоновцы входили в своем адресе с представлением, что при продолжении такого беспорядка не останется ни десятины земли для уплаты долга защитникам родины. Уже Робеспьер жаловался в своих последних речах на снисхождение, оказанное богатым рантье в ущерб беднякам, и особенно на то, что комитет финансов терпит расхищение массы национальных имуществ, предназначенных для народа. — Прим. Буонарроти.
[22] Он велел арестовать в Варенне бежавшего преступного короля и стал в Конвенте под знамена демократии; взятый в плен, вследствие своего горячего самопожертвования при осаде Мобёжа [LVIII], он со времени мрачных событий термидора, вызвавших его презрительное осуждение, кочевал по тюрьмам Австрии. — Прим. Буонарроти.
[23] Весьма любопытно видеть, что в обществе, где преобладали, по крайней мере количественно, сторонники Робеспьера, предложение публично почтить божество и возвращение к культу Верховного Существа вызвали довольно живой протест. Буонарроти сознается, что пришлось объяснить обществу, что если оно прикроется религиозной формой, то лишь с политической целью, чтобы пользоваться гласностью и храмами, гарантированными законом всем культам. Несмотря на это, сопротивление продолжалось, следы чего можно найти в тексте принятого постановления: «Почтить божество проповедью естественного закона. Что содержит внутреннее противоречие». — Прим. А. Ранка
[24] 9 вантоза IV года. — Прим. В. В. Святловского.
[25] Бонапарт, командовавший тогда внутренней армией, был подлинным автором этой меры: выяснив с помощью многочисленных агентов тайные намерения пантеоновцев, он напугал ими Директорию и достал приказ о закрытии общества; он присутствовал, при исполнении этого приказа и велел вручить себе ключи от зала, где происходили заседания общества.
По многим чертам в характере этого генерала уже прославившегося взятием Тулона и сражением 13 вандемьера, новая аристократия должна была распознать в нем человека, способного оказать ей в один прекрасный день существенную поддержку в борьбе с народом; знание его высокомерного характера и его аристократических взглядов побудило эту партию, напуганную тогда быстротой возрождения демократического духа, призвать Бонапарта, на помощь 18 брюмера VIII года.
Вследствие политики, воспреобладавшей 9 термидора II года, лица, руководившие судьбами Франции, были вынуждены рассматривать наступательную войну как могущественное средство для того, чтобы притупить внимание нации, отвлечь ее от заботы о своих правах, постепенно изгнать из войска демократические настроения, деморализовать граждан и дать пищу честолюбию генералов; трудно объяснить иначе их поведение в Италии и Швейцарии и особенно эту неразумную и преступную экспедицию в Египет. Бонапарт мог бы, благодаря твердости своего характера и успеху своих военных подвигов, быть реставратором французской свободы, но, как вульгарный честолюбец, он предпочел нанести ей последний удар; он держал в своих руках счастье Европы, но стал бичом ее благодаря систематическому гнету, которому он ее подверг, а также благодаря тому еще более ужасному гнету, элементы которого он подготовил и которым после его падения были поглощены, во имя все той же свободы, столько народов этой части Земного шара [LIX]. — Прим. Буонарроти.
[26] Тождественное обвинение было предъявлено Робеспьером эбертистам. — Прим А. Ранка.
[27] «Жерминаль» («первый весенний месяц прорастания») — седьмой месяц республиканского года (с 21 марта по 19 апреля). — Прим. В. В. Святловского.
[28] Это знаменитый автор «Словаря атеистов» и «Альманаха честных людей», за который он в течение 4 месяцев сидел в 1788 г. в тюрьме Сен-Лазар. — Прим. А. Ранка.
[29] Некоторые ошибочно принимают этот составленный единолично Сильвеном Марешалем «Манифест равных» за манифест, излагавший credo группы и суть учения Гракха Бабёфа. Это неверно. Бабёф и его единомышленники отвергли «Манифест», а Тайная директория издала и распространила другой документ. — Прим. В. В. Святловского.
[30] Феликсу Жермену, родившемуся в Нарбонне, в 1789 году было восемнадцать лет. Он поступил на службу и стал капитаном гусаров. Пламенный революционер, он был арестован после 9 термидора и в тюрьме познакомился с Бабёфом. Он умер в Париже от холеры в 1831 году. Сильно разбогатев после женитьбы, он не утратил ни одной из идей своей молодости и оставался близким другом Буонарроти, которого много раз у себя укрывал. — Прим. А. Ранка.
[31] Хотя Тайная директория считала, что она имеет основание отказывать в доверии многим из этих членов Конвента, тем не менее многим она отдавала и вполне заслуженную дань уважения и почтения. — Прим. Буонарроти.
[32] Гюге и Жавог были казнены военной комиссией Тампля после резни в Гренелльском лагере [LX]. — Прим. А. Ранка.
[33] Так называлась армия, стоявшая с 9 термидора вокруг Парижа на страх друзьям свободы. — Прим. Буонарроти.
[34] Созывая это собрание, Тайная директория нарушила пункт 3 своего устава, эта ошибка, не будь которой, Гризель не знал бы вождей заговора, оказалась главной причиной гибели их плана. — Прим. Буонарроти.
[35] Пеш и Стев. — Прим. Буонарроти.
[36] Генерал Россиньоль — оправданный судом в Вандоме — появился в Париже после 18 фрюктидора. Он был одним из первых арестованных по приказу Бонапарта после взрыва адской машины. Сосланный на остров Анжуан, он там умер, как и Массар, Буен и другие ссыльные, за исключением Лефранка, о котором мы говорили выше, и трех других. Вот его последние слова: «Я умираю под бременем самых ужасных страданий, но я умер бы довольным, если бы я узнал, что угнетатель моего отечества, виновник моих бедствий потерпит такие бедствия и такие же страдания! Когда Лефранк возвращался во Францию, то английский корабль, на котором он находился, защел на о Св. Елены; таким образом он имел удовольствие убедиться в том, что желание Россиньоля исполнилось. — Прим. А. Ранка.
[37] Тогдашняя конституция запрещала делать обыски в домах ночью. — Прим. А. Ранка.
[38] Впоследствии на суде Гризель объявил, что он не может вспомнить о местонахождении собрания 11 числа. — Прим. А. Ранка.
[39] Можно, не боясь преувеличения, довести число людей, находившихся тогда в Париже и готовых взять на себя инициативу восстания, до 17 000 человек, не считая очень многочисленного класса рабочих, недовольство и нетерпение которых сказывались повсюду.
Вот положение дел, послужившее основанием для решений Тайной директории:
Революционеров — 4 000
Членов прежней власти — 1 500
Артиллеристов — 1 000
Смещенных офицеров — 500
Революционеров из провинций — 1 000
Гренадеров Законодательного корпуса — 1 500
Военных арестантов — 500
Полицейских легионеров — 6 000
Инвалидов — 1 000
[Всего] — 17 000. — Прим. А. Ранка.
[40] Один факт, имевший место после нашего заговора, кажется, разъясняет эту тайну. После насильственного уничтожения Тайной директории и заключения в тюрьму многих из ее членов, остальные демократы задумали разбить их цепи и продолжать их дело. Двое друзей члена Директории Барраса втерлись в их доверие и убедили их, что тот разделяет их пожелания и хочет на деле содействовать их стараниям. Как раз по их совету был составлен проект создать братское единение между демократами и солдатами Гренелльского лагеря, с которыми они потом должны были пойти на Исполнительную директорию, чтобы произвести желанный переворот. Обещания, данные от имени Барраса его друзьями, и розданная ими сумма — около 24 000 франков — и заявления некоторых офицеров лагеря действительно побудили демократов явиться туда толпой, без оружия, с криком: «Да здравствует Республика!», и распевая патриотические песни; вместо обещанного братства, они нашли там смерть. Кто поставил эту западню? Кто захотел одним ударом уничтожить демократическую партию? — Прим. Буонарроти.
[41] Составленный из ста семидесяти с лишком депутатов. — Прим. А. Ранка.
[42] «Они еще не были, — говорит Буонарроти в одном из своих примечаний, — отягощены добычей, захваченной в Швейцарии, Италии, Египте, Германии и Испании. Можно добавить, что они еще не были деморализованы тем новым духом, который Бонапарт ввел в армии. Гнусное воззвание генерала Бонапарта к итальянской армии точно определяет время, когда революционные легионы Франции превратили в мародерские и разбойничьи армии, когда патриоты уступили место преторианцам». — Прим. А. Ранка.
[43] Вот эти строчки: «Инсуррекционный комитет общественного спасения. Народ победил, тирании больше нет, вы свободны». Тут писавший был перехвачен. — Прим. Буонарроти.
[44] Вот заглавие брошюры, на которую намекает Буонарроти: И. Н. Паш «О крамоле и партиях, о конспирациях и заговорах и о заговоре текущего дня».
Это проявление мужества делает честь Пашу, который был в революцию крупным военным администратором и, вместе с Бушоттом, истинным творцом свободы. — Прим. А. Ранка.
[45] Вот в каких выражениях Шарль Нодье говорит об Антонелле по поводу процесса в Вандоме: «Антонелль выказал тогда перед эшафотом Сиднея такое же хладнокровие, какое он доказал уже 13 вандемьера, прогуливаясь с книгой в руках по террасе Тюильри. Его уверенное и благородное спокойствие внушало род почтения, которому поддался даже непосредственный обвинитель; он говорил мало, редко, с непринужденной и почти беззаботной манерой». — Прим. А. Ранка.
[46] Председателем верховного трибунала был гражданин Гандон, судьями граждане Коффиналь, Пажон, Моро и Одье-Массильон. — Прим. А. Ранка.
[47] София Лапьер — патриотка-певица, обычно выступавшая в кафе «Китайские бани». — Прим. А. Ранка.
[48] Четыре года спустя от нее больше не оставалось и следа. — Прим. А. Ранка.
[49] Впоследствии одно постановление уголовного суда Сены торжественно признало, что поставленные верховным судом данные вопросы относительно подстрекательства шли вразрез с законом. — Прим. А. Ранка.
[50] Блондо, который при начале дела не был арестован, попытался устроить бегство Бабёфа. Это было главной причиной его осуждения. Казен и Моруа, о которых я нашел мало сведений, были агентами Тайной директории в восьмом и двенадцатом районах. — Прим. А Ранка.
Комментарии научного редактора
[I] Ранк Артур (1831—1908) — французский революционер, журналист, историк революционного движения, политический деятель. Участник баррикадных боев в декабре 1851 г. (в неудачной попытке противостоять перевороту Луи Бонапарта), член тайных обществ, сподвижник Бланки и Мадзини. Осужден на тюремное заключение с последующей высылкой в Алжир, оттуда бежал в Швейцарию. После амнистии 1859 г. вернулся во Францию, сотрудничал в республиканских газетах, неоднократно попадал в тюрьму за свои статьи. Активный участник Парижской Коммуны 1871 г., член Совета Коммуны от IX округа. После разгрома Коммуны бежал в Бельгию, заочно приговорен к смерти. Вернулся во Францию после амнистии 1880 г., депутат парламента от левых, сенатор Республики в 1903—1908 гг. Оппозиционный журналист, в 1905 г. сменил Ж. Клемансо на посту главного редактора журнала «Аурор». В 1928 г. его именем названа улица в Париже.
[II] К 1922 г. В настоящее время — в первую очередь усилиями советских исследователей — ситуация, конечно, изменилась.
[III] Другой вариант перевода: «Трибун народа».
[IV] Дословно: «L'Éclaireur du Peuple», т.е. «Народный разведчик», тот, кто забегает вперед, выясняет, что там, и рассказывает остальным.
[V] Святловский Владимир Владимирович (1869—1927) — российский революционер, социал-демократ, экономист, историк революционного движения, организатор и идеолог профсоюзного движения в России. Участник подпольных кружков (в т.ч. Бруснёвского), эмигрировал, спасаясь от полиции, в Германию. Защитил в Мюнхенском университете докторскую диссертацию по теме «Хозяйственная история Древней Руси». В 1898 г. вернулся в Россию, примкнул к экономистам. С 1901 г. — приват-доцент Санкт-Петербургского университета. В 1905 г. — член бюро и казначей «Союза союзов», член Центрального бюро профсоюзов, главный редактор его ЦО «Профессиональный союз», член 2-го созыва Петербургского Совета рабочих депутатов. После поражения революции отошел от политической деятельности, сосредоточившись на научной. Преподавал в Петербургском психоневрологическом институте и на Высших женских курсах. После Октябрьской революции — преподаватель многих петроградских высших учебных заведений, член президиума Губполитпросвета, работник Ленгубпрофсовета. Автор многих работ по политэкономии, истории революционного и профсоюзного движения.
[VI] Так в оригинале. Очевидно, должно быть «Петербургского».
[VII] Минос — легендарный царь Древнего Крита домикенского периода. Согласно античной традиции, первым дал своим подданным кодифицированные законы. Со временем превратился в персонажа древнегреческой мифологии. Во времена Бабёфа считался историческим лицом (возможно, таковым и является, при этом не исключено, что Миносов было два — Минос I и его внук Минос II; кто из них законотворец — неизвестно).
[VIII] Резня на Марсовом поле — важный эпизод первого этапа Великой Французской буржуазной революции: 17 июля 1791 г. на Марсовом поле в Париже было расстреляно мирное собрание, которое по призыву Клуба кордильеров занималось подписанием петиции об отстранении от власти короля, незадолго до этого пытавшегося бежать из Франции и задержанного в Варенне. В петиции также содержалось требование созыва нового Учредительного собрания. В результате расстрела погибло 50 человек и несколько сот было ранено, Клуб кордильеров был закрыт, республиканцы бежали из страны или ушли в подполье. Резня на Марсовом поле показала, что крупная буржуазия перешла в лагерь контрреволюции.
[IX] Война Австрии была объявлена 20 апреля 1792 г. по инициативе жирондистов. Робеспьер и его товарищи еще зимой 1792 г. разоблачали жирондистский план войны как направленный против углублявшейся французской революции, то есть как план ее удушения соединенными силами внутренней и внешней реакции. События на фронте (измены генералов и поражения революционных войск) полностью подтвердили эти разоблачения.
[X] 28 августа 1790 г. вспыхнул солдатский бунт в трех полках, расквартированных в Нанси — двух французских и одном швейцарском (полку Шато-Вьё). Бунт был спровоцирован офицерами, преследовавшими солдат, отказавшихся стрелять в народ в Париже 14 июля 1789 г. (в день взятия Бастилии). Командующий войсками в Меце маркиз Ф.-К.-А. де Буйе взял 31 августа Нанси штурмом, при этом было убито 3 тысячи человек (в основном мятежных солдат и поддержавших их санкюлотов). Французские полки почти сразу капитулировали, но швейцарский полк оказал упорное сопротивление. 20 его солдат было повещено, 41 — сослан на галеры. После принятия конституции 1791 г. якобинцы добились освобождения и реабилитации осужденных швейцарских солдат. 15 апреля 1792 г. в их честь в Париже был устроен революционный праздник.
[XI] де Нарбонн-Лара Луи-Мари-Жак-Амальрик (1755—1813) — французский политический деятель и дипломат; граф (считается, что он был внебрачным сыном Людовика XV). 16 декабря 1791 г. жирондисты сделали его военным министром. Нарбонн послал связанного с жирондистами сына генерала де Кюстина с тайной миссией в Кобленц, в штаб антифранцузской коалиции, к герцогу Брауншвейгскому, с предложением совместными усилиями с помощью армии разогнать Учредительное собрание и восстановить абсолютную монархию. После падения монархии бежал в Лондон. Вернулся во Францию при Наполеоне, стал адъютантом императора, выполнял его ответственные дипломатические поручения.
[XII] 10 августа 1792 г. — день падения монархии. В этот день части Национальной гвардии и пришедшие в Париж отряды революционных федералов из Марселя и Бретани взяли штурмом королевский дворец Тюильри и низложили короля Людовика XVI.
[XIII] 31 мая 1793 г. — день восстания Парижской коммуны под руководством якобинцев против правительства жирондистов. 2 июня 1793 г. власть Жиронды пала, 22 лидера жирондистов были арестованы. Основной движущей силой восстания были санкюлоты.
[XIV] Ф. Буонарроти перечисляет основных вождей жирондистов.
[XV] Дюмурье Шарль-Франсуа (1739—1823) — французский генерал, военный авантюрист. Участвовал в Семилетней войне и в войнах на Корсике, в Португалии, Испании, Фландрии, Польше. Продавал свою шпагу тому, кто больше заплатит. Выполнял секретные поручения Людовика XVI за границей; после начала революции был одним из связных между роялистами и жирондистами. Назначен жирондистами министром иностранных дел, объявил войну Австрии (см. комментарий III). После бегства к австрийцам Лафайета назначен командующим Северной армии. В марте 1793 г. вступил в секретные переговоры с герцогом Кобургским, предупредил его о своем намерении двинуть армию на Париж, разогнать Конвент и восстановить монархию и обещал очистить от французских войск Бельгию. Однако поход на Париж не удался, после чего Дюмурье бежал к австрийцам.
[XVI] де Кюстин Адам-Филипп (1740—1793) — французский генерал, маркиз. Участник Семилетней войны и войны США за независимость. Депутат Генеральных штатов от лотарингского дворянства. Был близок к жирондистам, назначен ими командующим Вогезской, затем Рейнской армиями. Через своего сына участвовал в заговоре Нарбонна (см. комментарий V), сдал неприятелю Майнц. Был за это гильотинирован. Дед знаменитого Астольфа де Кюстина, автора «России в 1839 году».
[XVII] Имеется в виду знаменитая Декларация прав человека и гражданина. Разумеется, она не принадлежит перу Робеспьера. Ф. Буонарроти в данном случае хотел сказать, что именно Робеспьер огласил ее в своей речи на заседании Конвента 24 апреля 1793 г.
[XVIII] Тюрьма Четырех наций — во время Великой Французской революции на краткое время основанный по завещанию Мазарини в 1688 г. Коллеж Четырех наций (т.е. для дворян Фландрии, Эльзаса, Пьемонта и Прованса) был превращен в тюрьму. Очень скоро эта тюрьма была закрыта, а в помещениях коллежа разместили Комитет общественного спасения, а затем — Высшую центральную школу.
[XIX] Часть этих имен является анаграммами: поскольку их владельцы на момент выхода в свет книги Буонарроти были живы, тот замаскировал их. В частности, Лоржан де Доримель — это Жюльен из Дромы, Ганнак — Шанак, Ла Тильм — Майе, Гольсен — Солиньяк, Ривагр — Гравье.
[XX] Восстание 1 прериаля III года — народное восстание в Париже против термидорианского правительства (20—23 мая 1795 г.). Восстание было вызвано экономической политикой термидорианцев, отменой «максимума» и других контрольно-уравнительных мер якобинцев, что привело к невиданной инфляции и массовому голоду. Восстание было почти не подготовлено и не было связано с политическими партиями. Восставшие захватили Конвент и добились решений об освобождении арестованных патриотов и о ликвидации Комитета общественного спасения. Но проявили нерешительность и вскоре были вытеснены Национальной гвардией богатых буржуазных кварталов в Сен-Антуанское предместье. Правительство вдобавок к 20 тысячам национальных гвардейцев и отрядов «золотой молодежи» ввело в Париж 25 тысяч солдат, Сен-Антуанское предместье было окружено и разоружено, начался «белый террор», ликвидировавший, в частности, последних якобинцев в Конвенте. Парижские санкюлоты перестали быть политической силой.
[XXI] 13 вандемьера IV года Республики (5 октября 1795 г.) в атмосфере усиливающегося крена вправо термидорианского режима в Париже произошел роялистский мятеж. Мятеж был подавлен верными Конвенту силами во главе с генералом Бонапартом. Немалую роль в подавлении мятежа сыграл «батальон патриотов 1789 года», сформированный из срочно выпущенных из тюрем участников прериальского восстания, которых буквально накануне мятежа Конвент именовал «террористами» и «анархистами».
[XXII] де Баррас Поль Франсуа Жан Никола (1755—1829) — деятель Великой Французской буржуазной революции. Аморальный авантюрист, беспринципный делец. Выходец из знатного прованского рода (виконт). При старом режиме разжалован из полка за кражу денег, служил во французских колониях, где зарекомендовал себя как гуляка и игрок. Во время революции примкнул к монтаньярам, был отправлен в качестве комиссара Конвента на подавление мятежей в Марселе и Тулоне, отметился там взятками, хищениями и огульными расправами; отозван в Париж Робеспьером, попал под следствие. Из страха перед наказанием примкнул к термидорианцам, один из лидеров термидорианского переворота, вождь Директории во всех ее составах. Прославился демонстративной роскошью и развратом. После 18 брюмера выслан как слишком себя скомпрометировавший из Парижа; в 1810 г. ему было запрещено жить во Франции. Вернулся в страну после Реставрации.
[XXIII] Тибодо Антуан Клер (1765—1854) — французский политик, писатель и историк. Во время Великой Французской революции — депутат Конвента, монтаньяр, затем — один из лидеров термидорианцев. В 1795 г. — президент Конвента, член Комитета общественного спасения. При Наполеоне — член Государственного совета, граф Империи. Во время Ста дней — член Палаты пэров. После Реставрации — в изгнании. Возвратился во Францию после Июльской революции 1830 г. После государственного переворота 1851 г. Наполеон III назначил его сенатором. Во время описываемых в книге событий Тибодо, как попавший в проскрипционные списки роялистов, рьяно отстаивал в Конвенте амнистию для пререальских повстанцев и вообще левых, способных помочь в борьбе с вандемьерскими мятежниками. Именно в Вандемьере и Бабёф, и Буонарроти были освобождены из тюрьмы.
[XXIV] Во времена Буонарроти в Европе было широко распространено убеждение, что Государство инков (Тиуантинсуйу) было по социальной структуре уравнительным и едва ли не «коммунистическим», с общей собственностью на землю, в котором даже Верховный Инка должен был сам возделывать свое поле. Этот пример не мог не вызвать интереса у участников уравнительно-коммунистической организации «равных». Говоря о парагвайцах, Буонарроти имеет в виду фактически автономное государство индейцев («редукции»), созданное иезуитами в Парагвайской провинции ордена (фактически на территории современных Парагвая, Аргентины и Бразилии), хозяйственная деятельность которого была построена на уравнительных принципах. Это «государство» было уничтожено вооруженным путем совместными силами испанских и португальских колонизаторов.
[XXV] Т.е. Бабёфа — по названию его газеты.
[XXVI] Совет пятисот — нижняя палата Законодательного собрания по Конституции III года (1795 г.). 18 брюмера VIII года (9 ноября 1799 г.) генерал Бонапарт совершил государственный переворот, разогнал Законодательное собрание и правительство Директории и поставил во главе государства Консульство из трех человек.
[XXVII] Закон 27 жерминаля III года (16 апреля 1796 г.) закрепил роспуск всех политических собраний и ввел смертную казнь за призывы (устные и письменные) к роспуску Законодательного собрания или Директории и к восстановлению конституции 1791 г.
[XXVIII] Марешаль Пьер Сильвен (1750—1803) — французский философ, писатель, поэт, драматург. Атеист и материалист. В 1788 г. за выпущенный им атеистический «Альманах честных людей» был осужден на четыре месяца тюрьмы, после чего публиковался анонимно. Разработал собственную систему «аграрного социализма» с коллективной собственностью на землю. Активный участник и отчасти идеолог подпольной бабувистской организации. Избежал преследования, так как его имя осталось неизвестным предателю Гризелю. Атеистические произведения Марешаля переведены на большинство европейских языков, включая русский.
[XXIX] Т. е. в начале апреля 1796 г.
[XXX] Барер де Вьёзак Бертран (1755—1841) — деятель Великой Французской буржуазной революции. Адвокат, депутат Генеральных штатов, Учредительного собрания и Конвента. Прославился красноречием. Пытался примирить жирондистов с монтаньярами, а затем Дантона с Робеспьером. Член Комитета общественного спасения всех составов, занимался в Комитете вопросами внешней политики и народного образования. Термидорианец, однако после термидорианского переворота был обвинен в сотрудничестве с Робеспьером и осужден в апреле 1795 г. на ссылку в Гвиану. Почему-то так и не был сослан, а после 18 брюмера подпал под амнистию. После Реставрации изгнан из Франции, вернулся на родину после Июльской революции 1830 г., в 1831—1840 гг. занимал пост префекта в департаменте Верхние Пиренеи.
[XXXI] Вадье Марк Гийом Алексис (1736—1828) — деятель Великой Французской буржуазной революции. Депутат Генеральных штатов, Национального собрания, Конвента. Монтаньяр, в 1793 г. — председатель Якобинского клуба, член Комитета общественного спасения. Личный недруг Робеспьера, термидорианец. Однако сам вскоре был обвинен в сотрудничестве с Робеспьером и осужден на ссылку в Гвиану. Скрылся, был схвачен, посажен в тюрьму в Шербуре, освободился после 18 брюмера по амнистии. Отошел от политики. После Реставрации изгнан из Франции, умер в Брюсселе.
[XXXII] Линде или Ленде Жан-Батист Робер (1746—1825) — деятель Великой Французской буржуазной революции. Депутат Конвента с 1792 г., монтаньяр, член Комитета общественного спасения в 1793—1794 гг., где занимался вопросами финансов и снабжения продовольствием. После термидорианского переворота вышел из состава Комитета. После прериальского восстания (см. комментарий XX) арестован, через два месяца освобожден. Избран в Совет пятисот (см. комментарий XXVI), но не допущен туда как «неблагонадежный»). В июле 1799 г. стал министром финансов, после 18 брюмера отстранен от должности, отошел от политики, занялся адвокатской деятельностью. После Реставрации осужден на изгнание, но скрылся и смог до смерти прожить в Париже.
[XXXIII] Речь идет о расположенных в Париже Люксембургском дворце и Люксембургском саде. В XIX в. было широко распространено мнение, что подземные ходы оттуда ведут в церковь Сен-Сюльпис, в Монетный двор, в Сорбонну и чуть ли не до Сены.
[XXXIV] Республиканский календарь заменил недели десятидневками (декадами). Десятый день (декади) был выходным для государственных служащих, вообще же самим гражданам предоставлялось право решать, сколько и каких дней, помимо этого, у них будут выходными. По закону о культе Верховного Существа, в декади должны были устраиваться праздники. Во времена Директории был принял закон, по которому мессы можно было служить только в декади.
[XXXV] У фельянов — в помещениях бывшего монастыря ордена фельянов (фельятинцев). Во времена Директории там располагались правительственные учреждения, которые, разумеется, охранялись Национальной гвардией и имели небольшие склады оружия и боеприпасов. У инвалидов — у нескольких тысяч одиноких ветеранов французской армии, проживавших в Доме инвалидов. Быт Дома инвалидов был устроен на военный манер, ветераны были разбиты на подразделения («дивизии») и располагали оружием.
[XXXVI] См. комментарий XX.
[XXXVII] Пропуск в оригинале. Предполагалось решить вопрос о числе лет позже.
[XXXVIII] ван Олденбарневелт Йохан (1547—1619) — видный деятель Нидерландской буржуазной революции, великий пенсионарий Голландии в 1586—1619 гг. Проиграл борьбу за власть Морицу Оранскому, был обвинен в государственной измене и казнен. Сидней Алджернон (1623—1683) — деятель Английской буржуазной революции, теоретик республиканизма. Индепендент, депутат Долгого парламента, ушел в отставку с государственной службы в знак протеста против разгона парламента О. Кромвелем. После смерти Кромвеля — на дипломатической службе, зарекомендовал себя выдающимся дипломатом. Во времена Реставрации — активный участник республиканской оппозиции. Арестован, обвинен в государственной измене, казнен. В качестве доказательства измены была использована рукопись его книги (издана посмертно) «Рассуждения о правительстве») — политического трактата, обосновывавшего республиканскую форму правления. Британская либеральная традиция считает Сиднея мучеником.
[XXXIX] Гужон Жан Мари Клод Александр (1766—1795) — деятель Великой Французской буржуазной революции. Военный моряк, затем адвокат. С 1792 г. — депутат Конвента, монтаньяр. В 1793 г. — член комиссии по борьбе с голодом и ростом цен, отстаивал «максимум» и ограничения свободной торговли. Министр внутренних и иностранных дел в апреле 1794 г., в июне послан чрезвычайным комиссаром в Рейнско-Мозельскую армию, где его застал термидорианский переворот. Вернувшись в Париж, развернул борьбу с термидорианцами. Арестован по обвинению в участии в прериальском восстании (см. комментарий XX), приговорен к смерти, чтобы не дать себя казнить, покончил с собой. Один из «прериальских мучеников».
[XL] Т. е. членами бабувистской подпольной организации.
[XLI] См. комментарий XXI.
[XLII] См. комментарий XX.
[XLIII] «Последние монтаньяры»: якобинцы, не вычищенные из Конвента к моменту прериальского восстания. Были ложно обвинены в его руководстве и приговорены к смерти. Демонстративно закололи себя передаваемым из рук в руки кинжалом, причем Дюруа, Субрани и Бурботт не умерли сразу, умирающими их приволокли на эшафот и гильотинировали. «Прериальские мученики», героический пример для последующих поколений левых республиканцев Франции.
[XLIV] Волнения в полицейском легионе (созданном после прериальского восстания) вспыхнули 29 апреля 1796 г. и были вызваны приказом отправиться на фронт. На следующий день легион был распущен, что явилось неприятным сюрпризом для бабувистов, которые вели там активную пропаганду и рассчитывали на легион в момент восстания.
[XLV] См. комментарий XV.
[XLVI] 10 мая 1790 г. роялисты организовали в г. Монтобан на юге Франции массовое убийство республиканцев. На сторону республиканцев встала местная Национальная гвардия (состоявшая в основном из протестантов), им противостояли территориальные войска (католики) во главе с аристократами. Столкновения удалось прекратить только после вмешательства регулярной армии.
[XLVII] См. комментарий X.
[XLVIII] См. комментарий VIII.
[XLIX] См. комментарий XXXI.
[L] Анжуан (ныне — Ндзуани) — один из Коморских островов. В конце XVIII в. остров даже не был еще под французским протекторатом, там располагалась крошечная французская военная миссия, фактически оторванная от метрополии и вообще европейской цивилизации. Климат острова считался очень тяжелым для европейцев.
[LI] 3 нивоза IX года Республики (24 декабря 1800 г.) роялисты совершили покушение на жизнь Наполеона Бонапарта (тогда — Первого консула), взорвав на улице Сен-Никез в Париже по пути его следования в Оперу «адскую машину» (бомбу). В результате покушения погибло 22 человека и 60 было ранено (в том числе дочь Жозефины Бонапарт от первого брака Гортензия), сам Наполеон чудом не пострадал. Хотя вина роялистов была очень скоро установлена, Наполеон использовал это покушение для того, чтобы обрушить репрессии на якобинцев и вообще левых.
[LII] Олерон — остров в Бискайском заливе. С 1799 г. служил местом политической ссылки, так как был в то время сильно заболочен.
[LIII] Лепелетье маркиз де Сен-Фаржо Луи Мишель (1760—1793) — «первый мученик Французской республики». Дворянин, отказавшийся от взглядов своего класса. Депутат Учредительного собрания и Конвента. С 1792 г. — якобинец. Автор плана национального воспитания, который предусматривал всеобщее обязательное бесплатное образование детей от 5 до 12 лет в общественных школах в сочетании с трудовым обучением. План был поддержан Робеспьером, но отклонен Конвентом как слишком радикальный. Активный сторонник казни короля Людовика XVI, подал в Конвенте решающий голос за казнь. Был за это убит роялистом. Первый революционер, похороненный в Пантеоне (после термидорианского переворота его прах был вынесен из Пантеона). Его именем названы улица в Париже и станция метро («Сен-Фаржо»).
[LIV] Лебон Жозеф (1765—1795) — деятель Великой Французской буржуазной революции. До революции — священник. Депутат Конвента, направлен комиссаром в департамент Па-де-Кале, сыграл важную роль при обороне Камбре. Жертва термидорианского террора, гильотинирован в октябре 1795 г.
[LV] В ночь на 10 сентября 1796 г. несколько сот «равных» попытались проникнуть на территорию Гренелльского лагеря и поднять восстание. Однако предупрежденная заранее Директория устроила им ловушку. 20 человек было убито, 132 арестовано. Военный суд вынес по этому делу 32 смертных приговора.
[LVI] В те времена Сейшелы не были не то что курортом, но даже просто местом, приспособленным для жизни. Безлюдные острова, лишенные всех благ цивилизации, они были присоединены к французской короне в 1756 г., а с началом революционных и наполеоновских войн их периодически захватывали англичане и отбивали французы как удобный стратегический пункт на пути в Индию.
[LVII] См. комментарий LI.
[LVIII] Осада Мобёжа — знаковое событие в ходе войн революционной Франции. 30 сентября 1793 г. австрийская армия завершила окружение крепости Мобёж на севере Франции и начала ее осаду. В крепости располагался 20-тысячный гарнизон, и, имея такие силы неприятия в своем тылу, австрийская армия не рисковала наступать на Париж. Несмотря на троекратный численный перевес австрийцам так и не удалось взять крепость, а при подходе новых французских полков после двухдневных боев с ними австрийская армия была вынуждена снять осаду и отступить. Мобёж стал одним из символов успехов новой, реформированной якобинцами, армии.
[LIX] Буонарроти имеет в виду, что Наполеон, отказавшись от идеалов Республики и провозгласив себя императором, стал могильщиком революции и открыл дорогу к реставрации Бурбонов.
[LX] См. комментарий LV.
Фрагменты из книги: Буонарроти Ф. Гракх Бабёф и заговор равных. Пг.—М.: Государственное издательство, 1923.
Перевод с французского К. И. Горбач под редакцией В. В. Святловского.
Комментарии А. Н. Тарасова.