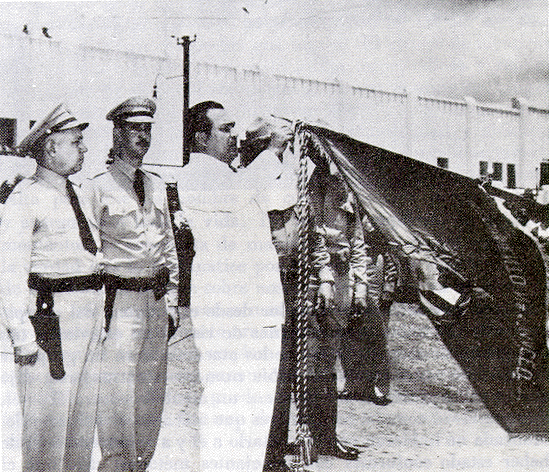
25 июля только один человек во всей Гаване знал тайну о двух атаках, назначенных на следующий день в восьмистах километрах от столицы, в провинции Ориенте: то была Нэтти Ревуэльта, красивая белокурая дама с зелеными глазами, посещавшая гаванский «Билтмор яхт кантри клаб».
Под светской внешностью Фидель сумел разглядеть ее истинную натуру и доверил ей выполнить в Гаване миссию большого политического значения. На рассвете 26 июля она должна была поставить в известность двух представителей прессы и двух руководителей партии ортодоксов [I] о выступлении фиделистов в Ориенте и объяснить им побудительные причины их действий. Для этого 24 июля перед отъездом в Ориенте Фидель передал Нэтти политический Манифест «Движения» [II]. Фидель знал, что вооруженное нападение, которое он собирался предпринять, не встретит одобрения руководителей партии, сторонников выжидательной политики. Но он надеялся, что они осмелятся поддержать его в Гаване, если он одержит победу в Ориенте.
26 июля в четверть шестого утра Нэтти выехала из дому на своей машине. Она волновалась, и нервы у нее были напряжены. В сумочке она везла Манифест и знала, что этого больше чем достаточно, чтобы получить смертный приговор, если он попадет в руки СИМ [III].
Прежде всего она отправилась к Раулю Чибасу. Он был братом великого лидера ортодоксов и на этом основании после самоубийства Эдуардо [IV] был введен в главный штаб партии. Его имя, которым он размахивал над своей пустой головой, как флагом, заменяло ему все.
Несмотря на ранний час, Рауль Чибас принял Нэтти Ревуэльту и выслушал ее, не прерывая, с холодным и чопорным видом. Когда она кончила, он погрузился в непроницаемое молчание, за которым на деле скрывалась лишь пустота и страх себя скомпрометировать. Нэтти встала, он тоже встал, чтобы вежливо проводить ее до двери, но не произнес ни единого слова.
Лидер ортодоксов Пелайо Куэрво оказал Нэтти совсем иной прием. У этого пятидесятилетнего человека страсть к политическим интригам не окончательно заглушила любовь к людям. Он был потрясен, узнав о готовящейся атаке, предсказал ее провал и сожалел о судьбе, которая ждет ее участников. Когда Нэтти передала ему Манифест, Куэрво взял документ так, словно он жег ему пальцы, и, бросив не читая в ящик стола, сказал:
— Дитя мое, скройтесь как можно скорей. СИМ не заставит себя долго ждать [1]. Нэтти не удалось повидать Кеведо, редактора «Боэмии» [V]. Он уехал из Гаваны на уикенд, и было уже десять часов утра, когда она попросила доложить о своем приходе Серхио Карбо.
Карбо, стоявшему во главе «Пренса либре», было лет шестьдесят, и в былое время он принимал участие в революции, сбросившей Мачадо. Но с годами он утратил вкус к рискованным затеям и потому велел сказать Нэтти, что еще лежит в постели и не может ее принять. Однако он выслал к ней своего зятя. Нэтти попробовала объяснить ему положение.
— Знаю, знаю! — ответил молодой человек. — Это потрясающе! — И продолжал: — Разумеется, это потрясающе, но атака уже провалилась. Мы только что слышали об этом по радио, и теперь СИМ ловит и уничтожает революционеров.
Он положил руку на плечо Нэтти и, не замечая ее бледности, продолжал говорить, а сам тихонько подталкивал ее к двери…
Как только в лагере Батисты узнали об атаке, там начался страшный переполох. Батиста поспешил вернуться из Варадеро в Гавану, чтобы укрыться в казарме-крепости «Колумбия», и начал проводить на всем острове жестокие репрессии, совершенно несоизмеримые с вызвавшим их событием.
С его стороны было бы гораздо дальновиднее преуменьшить значение атаки и ограничиться лишь легальными мерами наказания для напавших на казарму. Но подобная политика требовала гуманности и мужества, какими Батиста и его генералы отнюдь не обладали. На деле они дрожали от страха. На несколько минут фиделисты овладели входом в казарму, они проникли в нее и нанесли армии первые удары со времени ее основания президентом Гомесом в 1910 году.
Первый раз за сорок три года Эхерсито [VI] пришлось сражаться, и она впервые понесла людские потери. Во время атаки были убиты три офицера и шестнадцать солдат.
Хотя решение ликвидировать пленников было принято Батистой и генералом Табернильей [VII] утром 26 июля в Гаване [2], солдаты в первые минуты сами предвосхитили этот приказ, а впоследствии рьяно выполняли его. 26-го на рассвете они сделали потрясающее открытие: их тоже могут убивать. Во время атаки они были вне себя от страха и ярости. После битвы у них осталось только одно желание: уничтожить нападавших. Их не учили быть храбрыми. Не учили их также уважать храбрость побежденного противника. Чувствуя себя гораздо увереннее во время резни, чем во время битвы, они теперь купались в крови.
Чтобы еще разжечь их пыл, некоторые офицеры обвиняли фиделистов во всевозможных злодеяниях. Коварная уловка: они утверждали, будто фиделисты потому надели военную форму, что собирались в случае победы занять место солдат. Нелепая ложь показалась правдоподобной этим грубым животным. Потенциальные безработные, как в ту пору все кубинцы, вышедшие из низов, они жили в страхе, как бы снова не оказаться на улице, и с этой минуты почувствовали к «корейцам» [VIII] безграничную злобу.
— Nos casaron con la mentira у nos obligaron a vivir con ella (они обвенчали нас с ложью и заставили жить с ней), — как с необыкновенной силой сказал Фидель. Ложь стала краеугольным камнем режима Батисты, сам он пользовался ею с непревзойденным цинизмом и дошел до патологической неспособности отличить правду от лжи. Монкадский процесс опроверг грубо состряпанные басни, которые он распространял после атаки. Свидетели доказали их полную беспочвенность, судьи с презрением отбросили их, даже обвинению пришлось от них отказаться. И несмотря на это, удалившись на Мадейру, Батиста десять лет спустя повторяет без всяких изменений всю ложь и клевету, которые выдумал со своими подручными, чтобы очернить фиделистов [3].
Радио, печать, телевидение — все средства информации или дезинформации современного государства были пущены в ход, чтобы распространять клевету на фиделистов. Рассказывали, будто «корейцы» обезглавили часовых поста 3, что они ворвались в больницу, держа в руках окровавленные ножи, вскрыли животы оперированным накануне больным и зверски прикончили их. Преступления эти они якобы совершали в желтых резиновых перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. К тому же в большинстве это были не кубинцы, а какие-то иностранцы: индейцы, мексиканцы, венесуэльцы и даже поляки [4]. Эти кровожадные авантюристы были якобы завербованы братьями Кастро, уголовными преступниками, на совести которых уже числится четыре убийства. Кстати, братья Кастро даже не были на месте во время атаки. Они распоряжались издали, сидя в Гаване и не подвергая себя никакому риску. Что касается оружия, тайно переправленного из Канады, то его оплатил бывший президент Прио [IX], который подготовил этот заговор, чтобы вновь вернуться к власти и воспользоваться всеми ее выгодами.
Все эти бредни выдумывались с целью оправдать массовые убийства, проводимые Эхерсито, и жестокие репрессии властей. Через несколько часов после нападения на Монкаду Батиста установил цензуру печати, отменил конституционные гарантии и объявил осадное положение в стране. После того как СИМ нашла на ферме в Сибонее принадлежавшую Абелю [X] книгу Ленина, она воспроизвела в газетах ее обложку и объявила, что «Движение» создано по указке коммунистов, и хотя было ясно, что «Движение» не может одновременно действовать «по указке коммунистов» и состоять «на содержании у бывшего президента Прио», это вопиющее противоречие нимало не смущало Батисту. Напротив, такое смешение давало ему возможность одним махом уничтожить все оппозиционные силы. Он объявил вне закона коммунистическую партию [XI], редакцию ее газеты захватили и разгромили, а активистов ее арестовали.
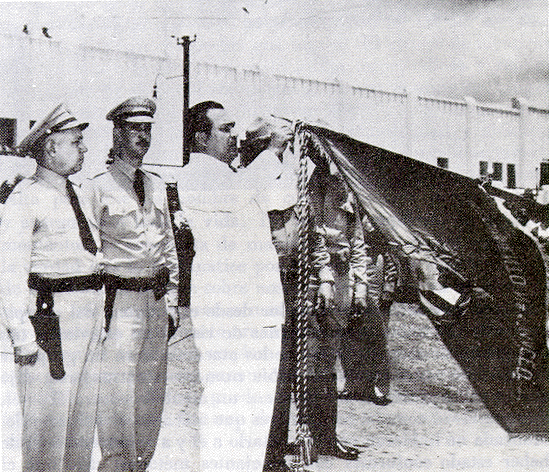 |
И все же, в то время как громадный аппарат государственной пропаганды принялся сеять ложь и смятение, небольшая кучка смелых свидетелей уже 26 июля стала распространять правду о событиях в Монкаде.
…Cолдаты вытащили из городской поликлиники фиделиста Исмаэля Рикондо, которому там оказали помощь, увезли в Монкаду и расстреляли. Так как его забрали в присутствии гражданских свидетелей, администрация казармы позаботилась о том, чтобы имя его не фигурировало в списках революционеров, «погибших во время боя». Но она позабыла уничтожить его регистрационную карточку, оставшуюся в поликлинике. И главный врач показал ее на другой день местному жителю Рубену Пересу, который пришел справиться о раненом. Рубен подобрал и спрятал у себя фиделиста Хеласио Эрнандеса, шурина Исмаэля, и тот попросил его сходить в поликлинику. Неопровержимая улика против диктатуры: на карточке Исмаэля стояло его имя, подпись, время госпитализации и описание его раны.
 |
Привезя Абелярдо Креспо в Монкаду, они тотчас начали его пытать. Понадобилось четыре человека, чтобы держать его за руки и за ноги. Они поднимали его кверху и с силой бросали об пол. У Абелярдо снова началось кровотечение, и он потерял сознание.
Он пришел в себя в какой-то темной комнате. В полутьме он разглядел, что вокруг него лежат фиделисты, его товарищи. Он заговорил с ними, но они не отвечали. «Они все время лежали совершенно неподвижно», и потому он подумал, что они, быть может, убиты. Но эта мысль лишь промелькнула в его сознании. В глазах у него мутилось. Ему казалось, что мысль его колеблется, как пламя свечи, которая вот-вот погаснет. Он снова потерял сознание, а когда очнулся, опять заговорил с товарищами, но так и не получил ответа. Тогда он понял, где находится, и с ужасом подумал, что его похоронят заживо. На этом он снова лишился чувств. Он не мог бы сказать, сколько времени провел среди мертвецов, так как то и дело терял сознание. В один из моментов просветления он заметил, что комнату наполняет сильный сладковатый и тошнотворный запах крови. Порой он забывал, что его товарищи мертвы, и говорил с ними, удивляясь, что они ему не отвечают.
 |
Очнулся он на кровати в маленькой комнате военного госпиталя. Перед собой Абелярдо увидел Педро Мирета, раненного в голову, но живого, а рядом — бредившего Фиделя Лабрадора с окровавленной повязкой на глазу. Он глубоко вздохнул. Теперь он спасен.
В ту же минуту в комнату вошли солдаты и снова начались пытки.
В восемь часов утра жители Сантьяго узнали по радио, что ночью произошло нападение на Монкаду, но атака отбита. Однако весь день слышались пулеметные очереди и отдельные ружейные выстрелы. Солдаты как бешеные носились по городу в джипах, порой наудачу стреляя в прохожих, и поэтому улицы опустели и жители заперлись в своих домах. Обычно такой оживленный и веселый, город, казалось, погрузился в глубокую скорбь. Он совсем обезлюдел, словно вымер. В это жаркое июльское воскресенье, несмотря на духоту, все двери были на запоре, окна и ставни закрыты.
 |
Доктор Прието Арагон занимал очень скромную квартиру в рабочем квартале. Достойный эскулап честно зарабатывал на жизнь, но не достиг такого благоденствия, как его собрат доктор Посада: Арагон был судебно-медицинским экспертом. Это был небольшой плотный человек лет пятидесяти, с большой круглой головой, редкими волосами, короткий носом с горбинкой и добрыми глазами, задумчиво смотревшими из-под морщинистых век. 26 июля он заперся у себя дома, чтобы составить рапорт, который должен был завтра представить во Дворец правосудия, и в десять часов вечера все еще сидел за работой. Его жена и дети уже легли спать, а он трудился в своем кабинете — маленькой комнате, до того загроможденной всевозможными бутылками, склянками, приборами, книгами и папками, что он с трудом находил свободный стул, чтобы присесть. Его короткие пухлые пальцы брались то за авторучку, то за толстую сигару. Над его круглым лысоватым загорелым черепом висела гравюра, изображавшая Смерть (с косой в руке), которая вырывает молодую красивую женщину из объятий мужа.
Доктор Арагон писал уже заключительные строки своего рапорта, когда услышал, как перед его домом резко затормозили и остановились несколько машин. В следующую секунду дверь его затряслась от тяжелых ударов.
— Что случилось? — спросил он, отпирая ее.
Перед ним толпилось не меньше тридцати солдат. Вид у них был возбужденный и перепуганный, а автоматы дрожали в руках.
— Доктор, — сказал один из них, — полковник Чавиано [XII] вызывает вас в казарму, чтобы констатировать смерть нескольких людей.
— Это еще не причина, чтобы выламывать мне дверь, — ответил доктор с досадой. — И вы явились сюда целой ротой, чтобы мне об этом сообщить? — добавил он. Но до них не дошла его ирония.
— Мы получили приказ привезти вас, — пробормотал солдат. Доктор Арагон пожал плечами.
— Я судебно-медицинский эксперт. Вызывать меня должен не полковник Чавиано, а судебный следователь.
И он дал им адрес судьи — доктора Леонсио Деспегуа. Через десять минут они явились за ним вместе с судьей.
В десять часов вечера улицы Сантьяго совершенно опустели из-за комендантского часа, и джипы неслись с сумасшедшей скоростью, резко тормозя на поворотах.
Доктор Арагон был поражен нервозностью солдат. Каждый раз, как в безлюдном городе им попадались на встречу другие джипы, забитые солдатами, они так и подскакивали и судорожно хватались за оружие. Встречаясь, джипы останавливались.
— Какого полка? — кричали из одной машины.
— Баракоа, — отвечали из другой. На это из первой машины должны были сказать:
— А я — Камагуэй.
Было ясно, что солдаты все еще не могут опомниться от страха перед фиделистами в военной форме.
В Монкаде доктора Прието Арагона и судью Деспегуа сначала повели в офицерский клуб, чтобы констатировать смерть солдат. Доктор насчитал тут шестнадцать трупов. Почти все были убиты пулями в голову из мелкокалиберных ружей. Но когда капитан привел их к телам революционеров, картина резко изменилась. Разбросанных по всей казарме убитых оказалось около сорока человек. У большинства черепа были расколоты, и доктор пришел к заключению, что они убиты выстрелами из нескольких автоматов, стрелявших в упор. У одного из них сохранился только кусок челюсти. У некоторых были так искромсаны тела, что, судя по всему, их прикончили гранатами. У худенького юноши с сержантскими нашивками была повязка на ноге. Тела большинства из них носили следы пыток: расплющенные ногти, выбитые зубы.
Потом доктора и судью отвели на маленький пустырь между военным госпиталем и Дворцом правосудия. Там лежало еще пять трупов, и среди них доктор узнал товарища своего сына — Ренато Гитара. Его голову и все тело изрешетили пули. Рядом с ним лицом вниз лежал труп революционера в белой медицинской куртке. Доктор Арагон перевернул его и прочитал вышитую на нагрудном кармане фамилию несчастного доктора Муньоса. Он констатировал, что его верхняя челюсть разбита с правой стороны, по-видимому, ударом приклада, а в спине зияет несколько пулевых ран.
Через несколько минут доктор Арагон шел обратно и с удивлением обнаружил на том же месте шесть трупов вместо пяти. Он сказал об этом капитану.
— Вы ошибаетесь, — холодно ответил тот. — Их было шесть.
— Прошу прощения, — возразил доктор Арагон, — но их было пять.
— Их было шесть, — повысил голос капитан. И добавил наглым тоном: — Быть может, вы знаете об этом больше, чем я?
Доктор Арагон взглянул ему прямо в глаза:
— О том, что здесь произошло, вы наверняка знаете больше, чем я, капитан… Но я умею считать до пяти.
— Еще раз повторяю — их было шесть! — крикнул капитан.
Маленький доктор выпрямился, глаза его метали молнии.
— Вы, может, хотите сказать, что один из мертвецов родил шестого? — гневно воскликнул он.
Подумав, он и сам нашел, что острота его довольно вульгарна, но, странное дело, в ту минуту он почувствовал некоторое облегчение.
Был уже час ночи, когда доктор Арагон вернулся домой. Он лег спать, решив сначала хранить молчание о бойне в Монкаде. Но он ворочался с боку на бок в кровати, не в силах заснуть. За все время своей службы судебно-медицинским экспертом он никогда не видел ничего подобного; чудовищные картины одна за другой вставали у него перед глазами. Он зажег свет, жена проснулась и, увидев изменившееся, потрясенное лицо мужа, забросала его вопросами. Тогда, за запертыми ставнями, в тишине вымершего города, он рассказал ей шепотом, какие ужасы ему довелось увидеть. Прижавшись лбом к его лицу, судорожно сжимая его руки в своих, сеньора Арагон беззвучно плакала, слушая его рассказ.
Сразу же после нападения на Монкаду, не успел еще окончиться бой, как диктатура уже раскинула на острове железную сеть слежки. По всем казармам — большим и малым — была объявлена боевая тревога, а на шоссе, у остановок автобусов, на вокзалах, аэродромах и на перекрестках главных улиц в городах пятьдесят тысяч человек проверяли документы и производили обыски.
За несколько часов всюду, как грибы после дождя, появились чивато [XIII]. По совершенно необоснованному доносу, по самому ничтожному подозрению были арестованы сотни людей. Начали, разумеется, с явных противников режима: коммунистов, членов партии ортодоксов, партии аутентиков [XIV], приверженцев Прио. А так как в бою были ранены многие фиделисты, то полиция обшаривала в Сантьяго все клиники и больницы и вытаскивала без разбора всех раненых, включая пострадавших от несчастных случаев и дорожных аварий. Солдаты с такой маниакальной подозрительностью относились к раненым, что хватали на улице всякого, кто рискнул выйти из дому с порезанной при бритье щекой или с забинтованным пальцем. Так, одного злосчастного жителя Сантьяго, у которого рука была в гипсе, увезли в Монкаду и жестоко избили.
В Гаване, Матансасе, Санта-Кларе, Камагуэе вызывали на допрос всех, кто не был у себя дома утром 26 июля. Особенно подозрительно относились к мужчинам моложе 25 лет и к студентам. В отравленной атмосфере жестоких расправ молодость становилась почти уликой. Более того: поскольку план нападения на Монкаду, казалось, был составлен со знанием дела, а фиделистов считали на это неспособными, то в тюрьму посадили и числившихся неблагонадежными отставных офицеров.
Первыми фиделистами, проскользнувшими сквозь петли этой железной сети, оказались, конечно, те, кто мог найти убежище у своих единомышленников где-нибудь неподалеку от казармы. Когда Лестер Родригес вышел из Дворца правосудия, он отправился пешком в форме Эхерсито на квартиру своих родителей. Все сошло как нельзя лучше. В этот ранний утренний час у него была только одна досадная встреча: с приятелем, который возвращался, изрядно подвыпив, с карнавала и, подойдя к нему, сказал, еле ворочая языком:
— Лестер! Да это же Лестер! Господи помилуй! Какого черта тебе понадобилось напялить эту форму? Хорош маскарадный костюм! Ты что, спятил?
Трое братьев Феррá надели военную форму поверх собственных брюк и рубашек. После боя они ее сбросили и добрались окольными путями до своей кузины, у которой была ювелирная лавка в Сантьяго. Когда их вымыли, побрили и привели в благопристойный вид, сын этой родственницы отвез их на машине в Ольгин. Они беспрепятственно миновали сторожевые посты благодаря своим документам, в которых указывалось, что они уроженцы Ориенте. К этому времени СИМ уже знала, что все фиделисты, кроме Ренато, прибыли из Гаваны. За Ольгином контроль был не так строг, и братья Феррá благополучно вернулись домой, в столицу.
Эмилио Альбентоса, курсируя взад и вперед между улицей Сельда и Сибонеем, вышел из дому, как только услышал пальбу. Но перестрелка была такая сильная, что ему не удалось добраться до Монкады. Тогда он побежал к городской больнице, и, когда издали увидел силуэты столпившихся вокруг здания людей, у него мелькнула надежда, что это свои. Однако, подойдя ближе, он распознал солдат и понял, что дело сорвалось. Он свернул обратно на проспект Гарсон и продолжал ходить поблизости от Монкады, надеясь встретить своих товарищей по группе. Наконец он решил вернуться домой, как вдруг заметил Мафута, который в растерянности бродил по улицам. Эмилио подбежал к нему, отвел в дом своих родителей и там спрятал [5].
…Группа Рауля [XV] уехала в Сьюдамар в «шевроле» Дальмау. В машине они сняли с себя форму, выбросили ее в окошко и явились в Сьюдамар в плавках и майках. В таком виде они рисковали ничуть не меньше, чем в военной форме, но им посчастливилось встретить добрых людей, которые дали им кое-какую одежду. Морской курорт Сьюдамар представляет собой тупик, поэтому фиделисты сочли, что безопаснее будет вернуться назад в Сантьяго и там разойтись, стараясь остаться незамеченными. Дальмау нашел гараж, где помыли его машину. Рауль поехал к матери своего друга, женщине-врачу. А Хосе Рамон повел Анхеля Санчеса и Абелярдо Гарсиа в издательство «Диас», с директором которого был знаком.
Директор издательства принял их прекрасно, скрывал у себя два дня, отпечатал для них фальшивые документы, приютил в своем доме Хосе Рамона [6], а его двух товарищей вверил попечению своих знакомых, которые были противниками диктатуры. Через месяц Санчес и Гарсиа вернулись порознь в Гавану.
Санчес чуть было не попал в беду, потому что для поездки из Сантьяго в Гавану заказал себе очки с толстыми стеклами, какие носят при астигматизме, рассчитывая, что они изменят его глаза. Когда же он отправился в вагон-ресторан вместе с сопровождавшей его жительницей Сантьяго, которая играла роль его жены, то не мог совладать со своим бифштексом. Он видел перед собой на тарелке какую-то огромную бесформенную массу и никак не мог отрезать от нее кусок. Мнимая жена шепнула ему, чтобы он был настороже: сидевший напротив батистовский унтер-офицер подозрительно поглядывал на него. Но от этого предостережения Санчес не стал ловчее орудовать ножом; тогда его спутница забрала у него тарелку и сама нарезала мясо, многоречиво объясняя соседям, что ее муж только сейчас вышел из клиники, где перенес глазную операцию, и что он еще плохо видит. Она так хорошо играла свою роль, что унтер-офицер через минуту перестал ее слушать и больше не обращал внимания на ее «мужа».
После нападения на Монкаду Хеласио Эрнандеса, у которого не было никаких знакомых в Сантьяго, окликнул на улице какой-то человек, сидевший за рулем автомобиля; он остановил машину подле него и спросил:
— Ты откуда?
— Из Артемисы, — ответил, секунду поколебавшись, Хеласио.
Это колебание убедило автомобилиста в том, что его догадка правильна, и он сказал:
— Садись. Оставаться на улице тебе опасно.
Затем отвез Эрнандеса к себе домой, спрятал его, а через несколько дней снабдил деньгами, чтобы тот мог вернуться в Гавану.
Адальберто Руанес растерял своих товарищей на улицах Баямо [XVI] через несколько секунд после провала нападения на казарму, бросил свое оружие и остался один с губной гармошкой в кармане. Городок был ему незнаком, он не знал, куда идти, и не решался даже побежать.
Он был в форме Эхерсито, но с непокрытой головой и в плохих башмаках, и понимал, что его скоро схватят. Из казармы высыпали солдаты, чтобы прочесать улицы, и он считал себя уже погибшим, когда неизвестный ему человек, небольшого роста, очень смуглый, поравнявшись с ним, сказал:
— Ты из тех, кто приехал из Гаваны?
«Может, это чивато?» — в смятении думал Адальберто, глядя в лицо незнакомцу, и, наконец, решившись, ответил:
— Да.
— Ступай за мной, — сказал неизвестный.
Он привел Адальберто к себе домой, дал ему брюки и рубашку и налил чашку кофе. Его жена стояла тут же, опершись о кухонный стол, и так дрожала от страха, что стол трясся под ее рукой. Незнакомец вышел на улицу, тут же вернулся и хладнокровно сообщил:
— Они обыскивают все дома подряд.
Затем, обратившись к жене, сказал:
— Ты отведешь его к своим родителям.
— Я?! — Жена в ужасе уставилась на него. — Но почему же я?
— Потому что на супружескую пару меньше обращают внимания. Иди. А я пока сожгу его обмундирование.
Из дома родителей этой женщины Адальберто доставили к врачу-негру. Тот многозначительно посмотрел на него.
— Ховен (молодой человек), — сказал он, — ты должен понимать, что все мы рискуем жизнью: ты, я, моя санитарка. Сейчас они убивают всех, кто попадается им под руку. — Помолчав, он добавил: — Если они тебя схватят, ты должен сказать, что силой заставил нас впустить тебя в дом.
— Хорошо, — ответил Адальберто, пораженный его сообщением. — Я так и скажу.
Этот врач три дня прятал его в комнате, выходившей в маленький дворик, за высокой стеной. В случае тревоги Адальберто должен был перелезть через стену и бежать в деревню. Ему запретили ходить по комнате и курить. Он должен был лежать в постели. Еду приносила ему санитарка-негритянка. Со своего ложа Адальберто видел маленький клочок неба над двором. Его гармошка лежала на столике у изголовья; время от времени он брал ее в руки и проводил по ней губами, но так, чтобы она не издала ни звука. При каждом звонке он вздрагивал.
К концу третьего дня врач отвез его на автомобиле в Кауто-Кристо, на ферму, принадлежавшую члену партии ортодоксов Леопольдо Мирету. Дом стоял на сваях, что спасало его от внезапных разливов Кауто; такая конструкция дома позволяла хозяевам держать в поле зрения шоссе и замечать издали приближение гостей. Сын Леопольдо, Ибраим, взял Адальберто под свое покровительство, показал все тайники фермы и научил говорить на диалекте гуахиро Ориенте. Уже стало известно, что многих фиделистов выдал во время проверок их гаванский акцент. Вскоре приехал на ферму и другой сын Леопольдо, Делио. Его тоже разыскивала СИМ. Но не потому, что он скомпрометировал себя какой-либо нелегальной деятельностью, — он был председателем студенческой организации в Ольгине. Однако и этого было достаточно, чтобы навлечь на него подозрение.
Месяц Адальберто помогал в полевых работах на ферме. А когда он загорел, как настоящий гуахиро, и усвоил крестьянский говор, его, переправляя из одного места в другое, доставили в Гавану.
Фельдшеру Флорентино Фернандесу в момент отступления не понадобилось снимать военную форму: он носил ее постоянно. И его удостоверение личности подтверждало, что он служит в военном госпитале в «Колумбии». Он был задержан и арестован патрулем в Пальма-Сорьяно, а после посажен в калабосо [XVII] казармы только потому, что отлучился 24 июля из приморской военной зоны в Хайманитасе, куда был откомандирован, не попросив увольнительной записки.
Читатель помнит, что ловкий тактический прием фиделистов [XVIII] навлек подозрение на военных. В калабосо Пальма-Сорьяно Флорентино встретил солдат, как и он, самовольно отлучившихся из казарм, разных военных, уволенных на пенсию, и офицеров, ушедших из армии после переворота 10 марта.
В полдень, однако, явился майор из Ольгина.
Это был высокий полный человек с шапкой седых волос, добродушная физиономия которого не отражала никакой мысли. Он велел показать ему утреннюю «добычу», и капитан, начальник казармы, повел его в калабосо.
— Я только что узнал, — сказал майор, — что повстанцы, атаковавшие Монкаду, — штатские, а не военные. Следовательно, — продолжал он, — эти люди в калабосо, которые являются военными, а не штатскими, не могли атаковать Монкаду.
Это глубокомысленное суждение убедило капитана, и он немедленно выпустил всех подозрительных.
Но чтобы отпустить Флорентино в Гавану, требовался приказ из полка в Ольгине, которому административно подчинялся Пальма-Сорьяно. Расстояние между обоими городами небольшое, но армия не торопится. Для получения приказа понадобилось три дня. А пока начальник казармы в Пальма-Сорьяно велел использовать Флорентино. Его приписали к казарме, дали новенький «спрингфилд» со ста двадцатью патронами и послали вместе с солдатами контролировать шоссейные дороги…
Более исполнительного служаку Эхерсито не могла бы найти. Флорентино, наслаждаясь иронией судьбы, выполнял приказы с безупречным старанием, но никого не задерживал.
Через три дня прибыл вызов — Флорентино уехал в Гавану и вернулся к своим обязанностям в военной приморской зоне Хайманитас. Там не было врача, а только второй фельдшер, который пока выполнял его работу. И в «Колумбии» никогда бы не заметили его отсутствия, если бы интендант казармы в Пальме не написал интенданту военного госпиталя в «Колумбии», чтобы взыскать с госпиталя расходы по довольствию военного фельдшера Флорентино Фернандеса за те три дня, что он содержался в Пальме. После надлежащей в этом случае проволочки интендант военного госпиталя в «Колумбии» сухо ответил своему коллеге в Пальме, что ничего ему не должен, поскольку фельдшер Флорентино Фернандес числится в списках военного госпиталя за этот период как откомандированный в Хайманитас. После чего начальник казармы в Пальма самолично позвонил по телефону интенданту госпиталя и подтвердил, что Флорентино находился в его казарме с 26 по 29 июля. Тогда военного фельдшера Флорентино Фернандеса посадили в тюрьму с мотивировкой: «самовольная отлучка».
Дальнейший ход событий принял чрезвычайно мрачный для Флорентино оборот, когда в его дело вмешалась СИМ. Ибо СИМ незамедлительно обнаружила, что Флорентино скупил у своих товарищей большое количество военного обмундирования. Агенты СИМ произвели у Флорентино обыск и нашли на дне стенного шкафа клочок бумаги, на котором Педро Триго записал для своего кузена фамилию и адрес Мельбы [XIX]. Тогда СИМ учинила Флорентино допрос, но ничего от него не добилась. Однако она сделала свои выводы. Флорентино посадили в бартолину.
Таким образом СИМ дала себе время на размышление. Она желала смерти виновного, но знала, что при наличии таких слабых улик суд на это не согласится. И СИМ знала также, что прикончить солдата гораздо труднее, чем казнить штатского. В стране, где полиция и правосудие были столь бессильны, исчезновение штатского не влекло за собой серьезного расследования. А исчезновение солдата могло иметь неприятные последствия. СИМ была неотъемлемой частью Эхерсито, и расправа с членом Эхерсито требовала соблюдения законных формальностей.
Наконец Флорентино выпустили из бартолины, но лишь затем, чтобы отвести его в кабинет неизвестного ему офицера СИМ, который начал с того, что выразил ему сочувствие. Потом, вынув свой пистолет из кобуры, офицер протянул его Флорентино и сказал:
— Возьми его и вытяни руку, как будто собираешься выстрелить.
— Но он, может быть, заряжен, — ответил Флорентино.
Офицер расхохотался.
— Неужто ты думаешь, что я доверю заряженный револьвер заключенному? Будет тебе, бери его! Делай то, что я велю. Я хочу посмотреть, как ты с ним обращаешься.
Флорентино повиновался.
— Хорошо, — оказал офицер. — А теперь прицелься в окно и сделай вид, что хочешь выстрелить.
Флорентино повиновался.
— Нажми собачку, — сказал офицер.
Флорентино нажал. Раздался выстрел, пуля пробила стекло, а офицер завопил. В тот же миг он бросился на Флорентино, обезоружил его, а когда в комнату вбежали солдаты, объявил им, указывая на дыру в оконном стекле, что заключенный пытался его убить. Флорентино схватили и подвергли проверке парафином. Разумеется, у него на пальцах оказались следы пороха. Тогда Флорентино нещадно избили и бросили, окровавленного, в калабосо.
Придя в сознание, он понял, что обречен и его вскоре ждет военный суд, а затем паредон (стенка). Он думал всю ночь напролет и принял решение. В военном госпитале он не раз наблюдал душевнобольных и решил симулировать помешательство. Когда часовые принесли еду, он бросил ее наземь и, выкатив глаза и прерывисто дыша, стал водить вокруг себя руками, словно хватал в пустоте какие-то несуществующие предметы. Заключенные, находившиеся вместе с ним в калабосо, вызвали часового. Он вошел и изо всей силы пнул Флорентино ногой в поясницу. Хотя Флорентино почувствовал ужасную боль, он сделал вид, что ничего не заметил. Часовой испугался и ушел.
Через несколько минут он явился с врачом и санитарами, которые набросились на Флорентино, надели на него смирительную рубашку и увезли в психиатрическое отделение при военном госпитале.
Более года Флорентино играл свою роль и находился в непрерывном и неослабном напряжении. Он отказывался принимать всякую пищу, и его кормили насильно. Как только его укладывали в постель, он вскакивал и ложился на пол. Из своих испражнений он лепил кубики и подносил эти кубики к губам. В присутствии свидетелей он неоднократно пытался повеситься на простыне. Часами валяясь на бетонном полу госпиталя, он уверял, что различает на нем чьи-то лица.
Флорентино не обманул бдительность СИМ, которая сразу же стала вопить, что это симуляция. Зато ему удалось ввести в заблуждение психиатра госпиталя. Врача интересовал характер болезни Флорентино. Он велел испытать на нем действие электрошоков и хотел видеть результат лечения. Флорентино был спасен, но какою ценой!
Начались ужасающие муки. За год он получил восемь электрошоков, от чего чуть и вправду не сошел с ума. Хотя сам этот эксперимент представлял собой чудовищную пытку, за которой неизменно следовал обморок, предшествующие ей часы казались Флорентино еще во сто крат хуже, так как он знал, что его ждет, и его терзала мучительная тревога. Когда электрошок кончался, он замечал в себе какие-то болезненные перемены, например у него изменялась походка, и тогда им овладевало еще более ужасное беспокойство: он боялся, что его мнимое безумие станет подлинным. Он чувствовал себя как в ловушке, ибо не имел даже возможности притвориться, что ему лучше. Он знал: в случае выздоровления его передадут СИМ и тотчас же казнят. Будущее его было ужасно, как бы ни обернулись события: либо стенка, либо пожизненный сумасшедший дом.
Переходя от тревоги к страху и отчаянию, Флорентино впал в глубокую депрессию и начал вполне серьезно подумывать о самоубийстве.
Военное интендантство, которое послужило причиной всех его несчастий, само же и положило им конец. Оно сочло для себя накладным содержать солдата Флорентино, не извлекая из него никакой пользы, и добилось того, что его отчислили из армии как непригодного к строевой службе. Тогда военный госпиталь передал Флорентино отцу, обязав его лечить сына за свой счет. И как раз вовремя. В Гуанахае, где Флорентино жил с отцом, у него началась депрессия, расстройство речи и двигательных центров, сопровождавшиеся неспособностью общаться с людьми. Но когда прекратилось психиатрическое лечение, мало-помалу прекратились и болезненные явления, и через несколько месяцев он поправился.
Большие предприятия и миллионеры, которые ими руководили, почти все находились в Гаване, и именно в Гаване среди крупной буржуазии, связанной тысячей уз с североамериканским капиталом, режим Батисты находил самую решительную поддержку. В Сантьяго у него не было твердой почвы под ногами. Столица Ориенте не была городом богачей. В ней насчитывалось всего две семьи миллионеров: Кахига, которые получили от Батисты возможность на льготных условиях эксплуатировать свои марганцевые рудники в Сьерра-Маэстре, и Годой, которым он отдал бесплатно сто пятьдесят метров набережной в порту для постройки складов. В благодарность за эти милости Годой и Кахига стали сторонниками диктатуры [8].
Но одна ласточка еще не делает весны, а два миллионера не составляют крупную буржуазию. В Сантьяго настоящим влиянием пользовалась средняя буржуазия. Один из самых видных граждан, Энрике Канто, имевший большой магазин в центре города, был богатым человеком. Но миллионером он не был. И влиянием, которое он приобрел, он был обязан не столько своим капиталам, сколько посту президента «Аксьон католика» («Католического действия») [9].
Доктор Посада был тоже очень состоятельным человеком, не будучи крупным богачом. Быть может, он представлял собой самый достойный тип человека из той сотни именитых жителей города, которые заправляли Сантьяго.
Вилла в Виста-Алегре, дом в Сьюдамаре на берегу моря, а возможно, и две-три фермы в Ориенте — вот приблизительно критерий, определявший значимость именитого жителя в обществе Сантьяго. Добавим к этому одного-двух слуг-негров и один-два дорогих американских автомобиля, хотя их меняли и не каждый год. Дети и жена ходили плавать и играть в теннис в «Виста-Алегре теннис клаб», где собирались «лучшие семейства» города. А отцы семейств — в зависимости от их вкусов — состояли в «Ротари клаб», «Лайонс клаб» или в одной из масонских лож.
Эта средняя буржуазия, преимущественно католическая, выказывала церкви и местным церковным служителям больше почтения, а главное, была искреннее в своих чувствах, чем крупная столичная буржуазия по отношению к гаванскому духовенству. Его высокопреосвященство Энрике Перес Серантес, архиепископ Сантьяго, пользовался в своем городе таким влиянием, каким не мог бы похвастаться кардинал Артеага, архиепископ Гаваны. Столичные миллионеры только на словах уважали те добродетели, которыми еще дорожили знатные граждане Сантьяго. Коммерческие сделки в столице были откровенно аморальны, и деньги оправдывали все. В Ориенте благодаря самому источнику своих доходов буржуазия оставалась в стороне от больших центров коррупции, и ее коробили дурные манеры, дурные нравы и дурное управление батистовских чиновников. Эти чиновники образовали новый класс грубых выскочек, которых непреодолимо влекло к наркотикам, азартным играм, взяточничеству и разврату. Знатные люди Сантьяго терпели этот класс, но не любили его.
Между именитыми гражданами и батистовцами была точно такая же разница, какая существует между либеральными консерваторами и циничными фашистами. Политические взгляды средней буржуазии в Сантьяго были просты. Она не любила диктатуру и боялась революции. А диктатуру не любила в особенности потому, что, по ее мнению, крайности диктатуры неизбежно вызовут революцию. После Мачадо был Гитерас [10]; преемник Батисты мог оказаться еще хуже.
В 1956 году, когда буржуазные круги Сантьяго узнали, что Фидель в Мексике готовит высадку в Ориенте, они послали к нему местного лидера партии ортодоксов Гарсиа Ибаньеса, чтобы попытаться уговорить Фиделя отказаться от этого замысла. Гарсиа Ибаньес был уполномочен сказать Фиделю, что задуманная им попытка обречена на неудачу. Но в действительности знатные люди Сантьяго этого не думали. Они именно потому и прилагали столько сил, чтобы отвлечь Фиделя от его цели, что знали: Фидель ее достигнет, а за этим последует революция.
— Y a la revolución, — говорил один старый нотариус из Сантьяго, — la tengo más miedo que al diablo [11].
Весьма сильные слова в устах католика испанского толка, для которого дьявол не был абстрактным понятием.
В политике же средняя буржуазия не имела твердых убеждений: она больше полагалась на свои эмоции. Недоверие или ненависть — дальше этого она никогда не шла: не любила диктатуру, не доверяла фиделизму. И не доверяла ему особенно потому, что после Монкады ее сыновья и дочери открыто выражали сочувствие «Движению». Во время судебного процесса буржуазная молодежь в Сантьяго носила подсудимым сигареты и конфеты, передавая их под носом у солдат. А когда фиделистов в тюремных машинах увозили из суда обратно в тюрьму Бопьято, молодежь выстраивалась на их пути шпалерами, как почетный караул.
30 ноября 1956 года, когда члены «Движения» совершили нападение на некоторые здания в Сантьяго, генерал Тамайо, следивший за боевыми действиями в бинокль, был потрясен, узнав среди нападающих юношей из «лучших семейств» Сантьяго, которых он накануне видел в «Виста-Алегре теннис клаб»… [12] А когда Фидель засел в маки в Сьерра-Маэстре, то самой заветной мечтой этих юных любителей тенниса было присоединиться к нему. Впрочем, тогда знатные люди Сантьяго, хотя они не заходили так далеко, как их сыновья, решили сделать ставку на победителя. Отчасти потому, что их обнадеживала мысль о социальном происхождении Фиделя Кастро, отчасти потому, что они надеялись оказывать влияние на «Движение», но так или иначе, они оказали Фиделю помощь. Зато после победы революции, когда он издал закон о земле, они тоже первыми лишили его поддержки.
От журналистов Сантьяго, от доктора Посады, доктора Арагона, судьи Леонсио Деспегуи, от тех офицеров, которые не одобряли чинимых в казарме расправ, знатные люди Сантьяго уже 26 июля узнали о кровавой бойне в Монкаде. Они были потрясены: Батиста воскрешает приемы Мачадо [XX]. Законность поругана, гражданские свободы попраны, убийство снова становится средством управления государством. Более того: диктатор поднял руку на именитых граждан. В Сантьяго в числе прочих видных людей Чавиано арестовал «Тоитико» (бывшего начальника городской полиции в период правления Прио), — бывшего мэра Луиса Касеро и местного лидера партии ортодоксов Гарсиа Ибаньеса. Все чувства этих знатных людей восставали против диктатора: классовая солидарность, отвращение к насильственным мерам, забота о сохранении законности, страх перед грядущим днем, чреватым революцией.
Уже утром 27 июля судья Субиратс позвонил по телефону секретарю канцелярии президента Андресу Доминго Моралесу дель Кастильо и с возмущением спросил:
— Что происходит? Вы что, намерены возродить времена Мачадо со всеми его убийствами? [13]
Андрес Доминго, человек хитрый и ловкий, был очень поражен этим заступничеством: Субиратс, известный чудак, нелюдим, весьма далекий от политики и житейских дел, имел в жизни только одну страсть: живопись. Если уж его проняло и он позвонил по телефону и говорит в таких выражениях с человеком, от которого зависит его карьера, то это показывает, как сильно возмущены и встревожены «столпы общества».
28 июля судья Субиратс, Сальсинес, ректор Университета, Энрике Канто и несколько других знатных людей собрались на совещание в «Паласно Провинсиаль» под председательством архиепископа Переса Серантеса и в присутствии Андреса Доминго. На этом собрании «живые силы» решили добиваться от Батисты в Гаване, а также здесь, на месте, от полковника Чавиано, чтобы они положили конец истреблению пленных. Андрес Доминго взял на себя миссию передать диктатору волю знатных людей Сантьяго, а монсеньер Перес Серантес согласился вступить в переговоры с Чавиано.
 |
На Батисту произвел сильное впечатление сделанный ему Андресом Доминго доклад об умонастроении жителей Сантьяго, о резкой реакции верхушки общества и вмешательстве архиепископа. Со свойственной ему изворотливостью и лицемерием он в самых высокопарных выражениях дал все требуемые от него гарантии. А впоследствии стало слишком очевидно, какими невысказанными вслух оговорками и секретными инструкциями для Чавиано сопровождались эти гарантии. Чавиано же со своей стороны чувствовал себя настолько неуверенно, что не мог не прислушаться к увещеваниям архиепископа. Равнодушный, развращенный, погрязший в своих пороках, не имевший никакого определенного мировоззрения, Чавиано выплыл на поверхность, как всплывает накипь, и отличался тем же качеством: неустойчивостью. Совершенные им преступления не были продиктованы ни политическими убеждениями, ни даже садизмом. Все эти реки крови он пролил только из раболепия перед своим господином, и его очень испугало всеобщее осуждение в Сантьяго.
С другой стороны, он знал, что группа из 50 вооруженных повстанцев во главе с Фиделем Кастро укрылась в отрогах Гран-Пьедры. Войска Чавиано окружили горный кряж, но им не удалось войти в соприкосновение с противником. Чавиано подозревал, что его солдаты не горят желанием сражаться, да и сам не стремился их возглавить, и посредничество архиепископа казалось ему очень полезным, так как оно могло способствовать капитуляции повстанцев без боя. А что произойдет потом, архиепископа не касается. На худой конец можно будет пощадить жизнь второстепенных фиделистов. Что же до самого Фиделя Кастро, то, если он попадет в плен, он вполне может погибнуть от «несчастного случая».
Архиепископ был достаточно умен, чтобы понимать, какой уклончивый характер у его собеседника. Он принял меры и уже вечером 29-го сделал достоянием гласности свое соглашение с полковником Чавиано, поместив письменное заявление в прессе со следующим заголовком: «¡Basta de sangre!» («Довольно крови!»). Выразив сожаление по поводу «violente choque fratricida» («братоубийственного столкновения»), которое повергло Кубу в печаль, он призывал всех отказаться от насилия, покинуть «el camino de rencores у venganzas» («путь злобы и мести») и проявить «piedad amplia у generosa para los vencidos» («во всей широте и великодушии жалость к побежденным»). Он добавлял: «Tenemos la promesa personal у formal del Jefe del Ejército de esta región, у confiamos en su pundonor de militar у en su palabra de caballero, lo mismo que confiamos en los servidores de la Patria a sus órdenes» [14].
Некоторые фиделисты упрекали монсеньера Переса Серантеса за то, что он произвел Чавиано в дворяне. На мой взгляд, это ошибочное толкование. Фразеология архиепископа была продиктована создавшимся положением, и ее следует рассматривать как один из тактических приемов в трудных переговорах. Призыв доверять «чувству чести» Чавиано был не чем иным, как способом публично связать его обещанием, данным им в частном порядке.
На самом же деле архиепископ настолько не доверял слову Чавиано, что решил самолично отправиться в Гран-Пьедру, чтобы вступить в контакт с революционерами. Он, несомненно, думал, что если сам, узнав фамилии фиделистов, передаст их военным властям, то Чавиано или Перес Чаумонт [XXI] уже не посмеют их убить. Решение архиепископа было, бесспорно, смелым решением. Поездка по дорогам Гран-Пьедры в разгар июля, под палящим солнцем Ориенте, представляла тяжелое физическое испытание для человека его возраста. Кроме того, он не мог знать, какой, собственно, прием окажут ему фиделисты, — ведь батистовская пропаганда распускала всевозможные слухи об их «свирепости».
Архиепископ выехал из епископского дворца в пятницу 31 июля в 9 часов утра на джипе без охраны и направился по дороге на Сибоней. Он был в черной сутане, и только нагрудный крест и перстень указывали на его сан. Джип вел человек надежный, Оскар Англада, и архиепископ, по своему обыкновению, сидел рядом с водителем. На заднем сиденье заняли места Энрике Канто и судья Субиратс, которые вызвались его сопровождать.
Джип шел из Сантьяго на очень небольшой скорости, затем выехал на дорогу в Сибоней, а когда приблизился к поселку Севилья, то еще замедлил ход. Согласно полученным сведениям, революционеры находились к востоку от поселка, на ближайших отрогах Гран-Пьедры. Как только машина миновала Севилью, архиепископ приказал шоферу ехать еле-еле, встал в джипе во весь рост и, держась руками за переднее ветровое стекло, несколько раз громко позвал беглецов. Ответа не последовало. Лесная чаща, яркая зелень которой уже поблекла от солнца, была неподвижна и безмолвна.
А между тем Энрике Канто почувствовал некоторое беспокойство. Чавиано заявил накануне, что военный самолет, летавший над Гран-Пьедрой на небольшой высоте, сбрасывая листовки, призывавшие повстанцев сдаться, подвергся обстрелу. В этом заявлении не было ни единого слова правды: не было ни самолета, ни листовок, ни обстрела. Но Энрике Канто, не знавший, что фиделисты вооружены только охотничьими ружьями, боялся, как бы джип, в котором он сидит, похожий на джипы Эхерсито, не стал мишенью для стрельбы из автоматов. Через некоторое время он не утерпел и, перегнувшись через спинку переднего сиденья, сказал архиепископу:
— Quizás sea bueno, Monseñor, que se baje, у camine por la carretera para que puedan distinguirle [15].
Архиепископ отлично понял, из каких побуждений Канто дал ему этот совет, но, взвесив всё, счел его разумным. Если революционеры скрываются за придорожными холмами, то пешеход встревожит их меньше, чем джип. Он велел шоферу остановиться и, оставив машину в тени деревьев, расстался со своими спутниками и пошел один вперед по шоссе. Он снова стал громко звать фиделистов, повторяя после каждой паузы:
— Ваша жизнь в безопасности. Я отвечаю за нее, как за свою собственную.
Было что-то странное в появлении на пустынной дороге в жаркий полдень черной фигуры старика, резко выделявшейся на бледной зелени маки.
Архиепископ безуспешно продолжал свои поиски до четырех часов дня. Он обливался потом и был измучен, но не пал духом. Он знал, что если даже фиделисты не слышали этого призыва, то им наверняка передадут его крестьяне-горцы. Когда по возвращении архиепископа в Сантьяго журналисты засыпали его вопросами, он ограничился лишь одним заявлением.
— Пусть мне скажут, где находятся революционеры, и я снова отправлюсь на поиски.
Но инициатива прелата, о которой с 29 июля стало известно всему острову, уже вызвала отдельные случаи капитуляции. Зубному врачу из Пальма-Сорьяно, Селестино Агилере, удалось добраться до Сантьяго 27 июля утром и укрыться у своих родителей; но его отец, считавший, как все кубинцы в то время, что СИМ всеведуща, уговорил его сдаться Эхерсито, как только узнал о полученных архиепископом гарантиях.
Эрнесто Тисолю удалось пробраться в Ольгин, где жили его родители. Они его спрятали, но он очень скоро понял, что они ужасно боятся, и это его мучило. А тут печать опубликовала призыв архиепископа Переса Серантеса, и отец Тисоля без его ведома, но не называя имени сына, начал осторожно вести переговоры о его сдаче. Старший Тисоль был масоном; он знал, что полковник, начальник казармы в Ольгине, тоже масон, и установил с ним связь через своего друга Кастельяноса, достопочтенного мастера масонской ложи в Ольгине [16]. К соглашению пришли скоро. 31 июля достопочтенный мастер в сопровождении начальника казармы явился за официально сдавшимся молодым Тисолем, чтобы отвести его в городскую казарму. А оттуда Эрнесто Тисоля переправили в Монкаду, где Лавастида [XXII] стал допрашивать юношу в то самое время, когда монсеньер Перес Серантес ходил взад и вперед по сибонейскому шоссе, тщетно взывая к его товарищам-фиделистам.
Третий фиделист обязан заступничеству монсеньера Переса Серантеса тем, что смог выйти из ненадежного убежища и сдаться властям, не рискуя жизнью. Его зовут Андрес Гарсиа Диас, но на Кубе его прозвали «Живым мертвецом» — прозвище это казалось мне мелодраматическим, пока я сам не встретился с Андресом.
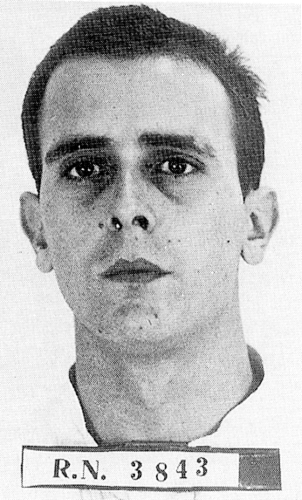 |
Андресу Гарсиа можно дать его годы: тридцать четыре. Рост, вероятно, один метр семьдесят. Он худощав, но в то же время крепко сколочен. Лицо тонкое, черты правильные. Ничто в нем не настораживает внимание, разве что взгляд. Вечером в моей комнате в «Гавана Либре» высокая лампа на столе освещала верхнюю часть его лица и светло-карие, глубоко посаженные глаза. Два-три раза Андрес Гарсиа так долго медлил с ответом и взгляд его делался таким пустым, что мне становилось как-то жутковато. Я думаю, вряд ли удастся мне когда-нибудь забыть отсутствующее выражение его лица, его низкий голос, внезапное долгое молчание и ощущение нереальности, или, если можно так сказать, нежизни, которое порой возникало у меня в присутствии этого человека.
Когда кончилась битва в Баямо, Андрес Гарсиа бежал из города вместе со своим сводным братом Уго Камехо и товарищем по имени Beлис. Велис догадался оставить на себе штатский костюм под военным обмундированием, в отличие от Уго и Андреса, внешний вид которых тотчас выдал бы их Эхерсито. Города они не знали и брели куда глаза глядят. Они вышли к кладбищу и заметили неподалеку от него, посреди поля, какую-то хижину. Поколебавшись, они все же решили довериться крестьянину. Он молча выслушал их, затем дал Андресу и Уго поношенную одежду.
Они почувствовали огромное облегчение, переодевшись в штатское; потом подсчитали свои деньги. На троих у них было один песо сорок сентаво — достаточно, чтобы доехать автобусом до Мансанильо [17], где жил родственник Андреса Гарсиа.
В автобусе их подстерегала смерть. Когда они вошли, какой-то полицейский обратил внимание на их башмаки — грязные, залепленные землей, потому что беглецы шли через поле, пока добрались до бойо [XXIII]. В Мансанильо полицейский вынул пистолет, повергнулся к ним и сказал:
— А вы, трое, вылезайте.
Затем он вышел первым и стал у дверцы автобуса, поджидая их с пистолетом в руке. Андрес Гарсиа наклонился к Уго и быстро шепнул:
— Нельзя так дать себя арестовать… Он же один, а нас трое.
Уго пожал своими широкими плечами:
— Да нет, ты увидишь, все обойдется.
Для такого оптимизма он имел довольно веские основания: все трое были в штатском и против них не осталось никаких улик.
В мансанильской казарме записали их фамилии и посадили в камеру вместе с десятком других подозрительных, но не стали допрашивать. Чувствовалось, что их арестовали и заключили в тюрьму просто механически. Никто не придавал им особого значения, и трое молодых людей не волновались. И действительно, к ночи прибыл приказ освободить подозрительных. Они вздохнули с облегчением. Но как раз в ту минуту, когда они собирались вслед за другими выйти из калабосо, прибыл новый приказ, отменявший первый. Выпустили всех, кроме них. Их водворили обратно в камеру. В то же время атмосфера вокруг них стала изменяться. Охрана перед калабосо была удвоена и стала строже. Они успокаивали себя тем, что их все еще не допрашивали, но фактически с этой минуты они были приговорены к смерти.
Правду об этом Андрес Гарсиа узнал только гораздо позднее: Уго, Велис и он сам состояли в ячейке Марианао. Брат одного из их товарищей по ячейке служил в Гаване в разведке. 24 июля он заметил, как уехали три машины с фиделистами. Узнав о нападении на Монкаду, он тотчас сообщил об этом массовом отъезде друзей своего брата, а поскольку знал всех лично, то назвал их фамилии и указал приметы. А имена и приметы в тот же вечер были переданы по радио во все кубинские казармы. В тот же вечер доносчик мог поздравить себя с отличными результатами своей работы: из тринадцати членов ячейки Марианао восемь, включая его родного брата, были арестованы, а днем 26-го расстреляны. Трое (Картайа, Камара и Андрес Гарсиа) были брошены в тюрьму. Только двоим — Ньико Лопесу и Каликсто Гарсиа — удалось скрыться.
В полночь за тремя юношами в калабосо пришла группа солдат. Им окрутили руки за спиной, посадили в джип и сказали, что «везут к следователю». В столь поздний час это было так неправдоподобно, что Уго и Андрее Гарсиа молча переглянулись.
Со свойственным Эхерсито размахом, когда дело касалось транспорта, солдатам понадобилось не меньше двух джипов, чтобы перевезти трех осужденных. Они посадили Уго и Андреса Гарсиа в первый джип, а Велиса во второй.
Обе машины двинулись по баямскому шоссе и с бешеной скоростью промчались 25 километров. В Вегитасе они остановились за деревней, на маленьком проселке подле кладбища. Ночь была светлая, но безлунная.
Ни слова не говоря, солдат, сидевший рядом с шофером, встал и нанес Уго сокрушительный удар прикладом. Мгновенно вскочив, Андрес Гарсиа закричал:
— Не трогайте его! У него парализована рука!
В ту же минуту солдат, сидевший между Уго и Андресом, тоже встал и неторопливо, медленным и хорошо рассчитанным движением ударил его прикладом в висок. Андрес Гарсиа зашатался, и тотчас же второй удар рассек ему левую надбровную дугу, а третий обрушился на затылок, за ухом.
Гарсиа упал не сразу и не совсем потерял сознание. Он успел получить еще два удара прикладом по голове и только тогда свалился. Один из солдат сказал:
— Погоди, я заберу свою бечевку.
Гарсиа почувствовал, что ему развязывают руки. Он приоткрыл глаза. Все было как в тумане. Его подняли, бросили на землю и накинули на шею веревку гораздо толще той, которой были связаны руки.
В эту минуту его вдруг озарил проблеск сознания и он понял, что солдаты привязывают его к джипу. Он услышал, как заурчал мотор, в лицо ему пахнуло выхлопными газами. Затем веревка натянулась. Он почувствовал, что его стремительно волокут по земле, сделал отчаянный вдох, ловя воздух, черная завеса опустилась перед его глазами, и он потерял сознание.
Когда Гарсиа очнулся, он почувствовал, что в тело ему впились сотни игл. Была кромешная тьма. Он ничего не видел. Пошарив вокруг себя, он сообразил, что лежит на каких-то колючих кустарниках. Повернувшись на бок, он избавился от колючек, но его тут же пронзила режущая боль в шее. Он поднес руку к горлу и ощутил под пальцами веревку. Петля была туго затянута, и ему пришлось напрячь все свои силы, чтобы ее развязать. Он попробовал было встать, но тотчас упал на колени. Голова у него словно отваливалась, его мучительно тошнило, и он чувствовал, что изо рта у него льется струйка какой-то теплой жидкости.
Он все еще ничего не видел вокруг, и ему казалось, что все его тело — одна сплошная рана. Уши болели. Он потрогал их пальцами и обнаружил, что они забиты, как пробками, сгустками крови. Потом он провел правой рукой по лицу. Левый глаз опух и так болел, что Андрес коснулся его только чуть-чуть, зато ему удалось приподнять указательным пальцем правое веко. И свет пронзил его, как пронзает стрела. Занималась заря, и с каждой минутой становилось светлее. Андрес был в придорожной канаве.
Он все еще стоял на коленях, опираясь на одну руку, а другой придерживал веко правого глаза. Он заметил следы своей крови на колючих кустарниках, среди которых лежал. Вдруг ему пришло в голову, что очень важно поскорей скрыть эти пятна крови, и он принялся забрасывать их пучками травы. Порой он сознавал, что это глупо, но продолжал свое дело с маниакальным упорством. Рана на шее ужасно горела, и он думал, что конец его близок. Ему удалось встать, и он огляделся по сторонам: он хотел выбрать место, где ему умереть. Это тоже стало для него вдруг очень важным.
И тут он заметил Уго. Уго лежал ничком на расстоянии меньше метра от него. С огромным трудом Андрес Гарсиа подполз к нему и перевернул его на спину. У него была петля на шее, а грудь пробита пулей. Андрес замер, глядя на него. Он не мог поверить. Уго был его другом, товарищем, братом.
Потрясение, вызванное смертью Уго, было столь сильным, что вернуло Андресу ощущение опасности. Уже совсем рассвело, надо было бежать. Он попытался встать и снова упал на колени. Падая, он заметил Велиса. Велис тоже был мертв. Должно быть, они протащили их за собой несколько сот метров, потом сбросили вповалку в канаву и в темноте палили наугад, торопясь закончить дело, чтобы отправиться спать.
Он снова попробовал встать и опять упал. Тогда он пополз на четвереньках по направлению к финке [XXIV], которую заметил невдалеке. А так как правый глаз закрывался, едва лишь Андрес переставал придерживать веко пальцем, он должен был время от времени останавливаться, чтобы поднять веко и проверить, не сбился ли он с пути.
Управляющий финки и рабочие были во дворе фермы и как раз доили коров, когда увидели ползущего к ним на четвереньках Андреса. Они застыли, остолбенев, будто увидели мертвеца, вставшего из могилы. Брюки и рубашка незваного гостя превратились в лохмотья и покраснели от пыли [18], а сам он с головы до ног был весь изранен, и лицо его, посиневшее, распухшее, покрытое запекшейся кровью, почти утратило человеческий облик. Никто не вымолвил ни слова. Они слышали ночью гудение джипов и выстрелы и поняли, кто он такой.
От кучки людей отделился рабочий и протянул Андресу стакан с манговым соком. Андрес выпил его с жадностью, но его тут же вырвало. Тогда ему дали молока. После каждого глотка Андреса рвало. Но он сделал над собой усилие, подавил рвоту, удержал последние глотки и почувствовал себя немного лучше. Ему даже удалось встать и остаться на ногах. Тут он заметил, что люди, стоящие перед ним, дрожат от страха. Это его поразило, потому что сам он не ощущал ничего похожего на страх. Возможно, у него не было достаточно сил, чтобы бояться. Прошло несколько секунд, потом какой-то крестьянин сказал, что ему нельзя здесь оставаться, что солдаты его разыщут. Андрес Гарсиа молча кивнул и, спотыкаясь, побрел через поле. Правой рукой он придерживал веко, чтобы видеть, куда идет. Время от времени он падал на колени.
Он не мог бы сказать, сколько времени шел. Потом он заметил в поле какие-то движущиеся фигуры. Андрес нажал указательным пальцем на веко и приподнял его повыше. По ружьям он догадался, что это солдаты. Они были от него не больше чем в ста метрах. Он повернул голову и заметил в тридцати шагах от себя поле сахарного тростника. Но солдаты его увидели и со всех ног бросились к нему. Андрес с отчаянием подумал: «Они схватят меня раньше, чем я доберусь до тростника». Но вдруг он заметил, что бежит. Он с изумлением смотрел вниз на собственные ноги, которые сами поднимались под ним. Истинная правда, он бежал!
Ему удалось добежать до ближайшей гуардаррайа [19], и там, на обочине, он свалился в траву ничком в полуобморочном состоянии у первых же рядов сахарного тростника. Он услышал шаги приближающимся солдат и, приподняв указательным пальцем веко, перевернулся на спину. Он хотел видеть лицо своего убийцы.
Солдаты прошли рядом с ним, не заметив его. Они видели, как он вбежал в гущу тростника, подумали, что он уже далеко, и во всю прыть помчались по лабиринту гуардаррайа. Андрес Гарсиа прислушался к тому, как замирают вдали их шаги, понял, какое преимущество дает ему их ошибка, встал, пошатываясь, на ноги и вышел из тростника. Он очутился лицом к лицу с девочкой лет пятнадцати. Увидев его, она зажала обеими руками рот и замерла на месте, дрожа от ужаса. Наслушавшись сказок от гуахиро [XXV], она, должно быть, приняла его за привидение.
— Послушай! — проговорил Андрес Гарсиа. — Ты скажешь солдатам, что я пошел вон туда… — Он показал рукой. — Скажешь?
Уставившись на него безумными глазами, девочка кивнула головой; говорить она не могла.
Он прошел добрый километр полем, поросшим гвинейской травой высотой почти в его рост. Ему казалось, что он сбил солдат со следа. Время от времени он спотыкался, грохался наземь и терял сознание. Когда он приходил в себя и вставал, у него ужасно кружилась голова. Близился полдень, Андресу очень хотелось пить, стояла сильная жара, и ему казалось, что голова его вот-вот расколется под лучами солнца.
Он услышал журчание воды и побрел на этот звук. Это журчала маленькая речка. Он упал на колени на берегу и нагнулся, чтобы смыть с лица слой засохшей крови. Но когда Андрес наклонился, у него закружилась голова, он потерял равновесие и упал прямо лицом в воду. Он схватился за какие-то выступавшие из воды корни. Было глубоко, но он умел плавать. Андрес больше не чувствовал боли от ран и испытывал неслыханное блаженство. Так он пробыл долго, погрузив затылок в воду, в сонном забытьи, почти без сознания, еле двигаясь, только чтобы держаться на поверхности.
Когда он наконец выбрался из воды, солнце высушило его меньше чем за час. Вдоль речки вилась еле заметная тропинка, а по обе стороны тропинки тянулись деревья и густые заросли кустарника. Он спрятался в чаще кустарников. Муки его возобновились, он весь горел, его лихорадило.
К вечеру он услышал какой-то шум на тропинке. Он выглянул из своего тайника и увидел ехавшего на велосипеде крестьянина. Когда велосипедист приблизился, Андрес Гарсиа его узнал. Это был рабочий с финки, который дал ему молока. Тот тоже заметил Андреса. Он спрыгнул с велосипеда и, не сказав ни слова, помог Андресу встать. Затем обхватил его за плечи и повел к себе домой. Надвигались сумерки, накрапывал дождь, и крестьянин первым делом соорудил для Андреса шалаш из веток в виде пристройки вдоль изгороди. В шалаше он устроил постель из листьев и уложил на нее Андреса.
Этого крестьянина звали Бернардо Гонсалес Амайа. Он жил, как большинство кубинских крестьян, в самой простой бойо и никогда не ел мяса. Но он разделил с Андресом то немногое, что имел: фритурита де маис [20], фрукты, воду. Он доверил ему гораздо большее: свою жизнь. Бернардо Гонсалес слишком хорошо знал сельскую полицию и понимал, что ему грозит, если у него найдут беглеца.
Через двое суток Бернардо Гонсалес установил связь с членом партии ортодоксов из соседней деревни Манако. Туда перевезли Андреса Гарсиа, лечили его и каждую ночь прятали в новом убежище. Было известно, что солдаты продолжают его искать. 26 июля вечером они оставили на дороге подле кладбища три трупа, а на другой день, приехав туда, чтобы их похоронить, нашли только два…
Через одного францисканского монаха из Мансанильо покровители Андреса Гарсиа установили связь с монсеньером Пересом Серантесом. 2 августа архиепископ приехал в автомобиле за беглецом, чтобы отвезти его обратно в Сантьяго. Он узнал, что Андрес — единственный оставшийся в живых из трех расстрелянных повстанцев, и считал небезопасным передать его в руки солдат в Мансанильо.
Архиепископ прибыл ранним утром. Его сопровождали Конча Рамсден, богатая дама-филантропка из Сантьяго, ее дочь Мириам Буэно и Энрике Канто, который привез их в своем новом «крайслере». Перес Серантес сидел, по своему обыкновению, рядом с водителем, а Андрес Гарсиа — на заднем сиденье между обеими женщинами. По дороге в Сантьяго в машине чувствовалось некоторое напряжение. Андрес был несколько смущен, оказавшись в машине вместе с «этими сливками общества», да и именитые граждане Сантьяго — не меньше, оттого, что рядом с ними сидит революционер. Больше всего был, бесспорно, смущен Энрике Канто. Во время гражданской войны в Испании он был фалангистом [XXVI] и пришел к более либеральным взглядам только недавно, под влиянием монсеньера. Колеблясь между либерализмом архиепископа и своими прежними убеждениями, он занял позицию, которая позволяла ему присутствовать здесь и в то же время как бы оставаться вне происходящего. Элегантный и чопорный, он сидел за баранкой, сосредоточив все внимание на управлении своим «крайслером», и за всю дорогу не проронил ни слова.
Архиепископ был добродушней его и держался проще. Он улучил минуту и, повернувшись вполоборота к Андресу Гарсиа, сделал ему отеческое внушение. Он пожурил Андреса за то, что тот прибег к насилию, и заверил его, что можно достигнуть лучших результатов, не нарушая общественного порядка. У Андреса было желание ответить, что первым нарушил общественный порядок Батиста, совершив государственный переворот 10 марта. Однако он не был уверен в Энрике Канто, отчужденный вид которого он сразу заметил, и потому предпочел промолчать.
Монсеньер был немного разочарован, не получив ответа. И так как молчание затянулось, он вынул из ящичка для перчаток на переднем щитке маленький, аккуратно завязанный пакетик, который дала ему на рассвете перед отъездом из Сантьяго экономка, и развернул его. Он очень обрадовался, найдя там свою любимую закуску — соленые галеты с ветчиной, — и с удовольствием принялся есть. Монсеньер был бесконечно далек от мысли, что разжигает голод Андреса, к которому вместе с силами вернулся и аппетит.
Андреса Гарсиа несколько волновало, что справа от него сидит красивая молодая женщина — Мириам Буэно; но то ли из сдержанности, то ли из застенчивости она не сказала ему ни слова. В противоположность ей Конча Рамсден очень ласково расспрашивала Андреса об его ранениях. Ей стало от души его жаль, когда она увидела, в каком он тяжелом состоянии; она поняла, до какой степени напряжены у него нервы, и выразила ему сочувствие. Между тем машина приближалась к Сантьяго, и Андрес Гарсиа спросил вдруг охрипшим голосом, куда его везут. Архиепископ, доедавший свое последнее печенье, обернувшись, ответил:
— В казарму Монкаду.
— Нет, нет! — горячо запротестовал Андрес Гарсиа. — Только не в Монкаду!
Восклицание Андреса взволновало и смутило архиепископа. Конча посоветовала отвезти беглеца к какому-нибудь судье, чтобы он принял от Андреса свидетельские показания в письменном виде. Но монсеньер полагал, что такой шаг будет слишком явным выражением недоверия к властям. Конча настаивала на своем, и спор продолжался. При этом Мириам Буэно точно в рот воды набрала, а Энрике Канто, казалось, был так же непричастен к этому спору, как если бы жил на другой планете. В конце концов монсеньер нашел компромиссное решение: Андреса не повезут в Монкаду, а передадут в собственные руки Чавиано в его вилле.
 |
По свойственной ему глупости и бестактности Чавиано не сразу уразумел цель этого визита, и, увидев Андреса в столь избранном обществе, любезно пожал ему руку. Но как только он понял свою ошибку, он обрушился на «корейца» с яростными нападками.
Монсеньер слушал эту диатрибу холодно. Мириам Буэно смотрела куда-то вдаль, а у Энрике Канто был более чем когда-либо такой вид, словно его здесь, собственно, и нет.
— Полковник, — твердо сказала вдруг Конча Рамсден, — вы обещали хорошо обращаться с пленными. Не забывайте ваше обещание!
— Конечно, сеньора, — ответил озадаченный Чавиано. И замолчал. Тогда Конча подошла к Андресу Гарсиа, обняла его и сунула украдкой ему в карман пачку ассигнаций.
Эта пачка пробыла у него недолго. Через десять минут, в Монкаде, она перекочевала из его кармана в карман к Лавастиде.
Раулю Кастро не довелось воспользоваться помощью архиепископа. Его арестовали 29 июля в окрестностях Сан-Луиса, когда он пытался добраться пешком до Бирана, где жил его отец Анхель Кастро. Арестован он был дорожным патрулем, так как не имел документов, а затем отведен в казарму этого маленького городка и заперт в калабосо. Допрашивавшему его тениенте [XXVII] Рауль заявил, что он Рамон Гонсалес, сын Аркадио Гонсалеса, главы ПАУ в Марканэ [21]. Рауль звал, что это заявление рано или поздно проверят, а как только установят его личность, его расстреляют, но надеялся, что Эхерсито сообщит по телефону в Марканэ приметы Рауля Кастро, что его отцу станет об этом известно и он хотя бы узнает об участи, ожидающей сына.
 |
Тениенте не поверил его заявлению. Он пристально разглядывал его сквозь прутья решетки калабосо и через некоторое время сказал:
— А ты ведь замешан в деле Монкады.
— Нет, тениенте, — ответил Рауль, крепко сжимая руками прутья решетки. — Я же вам говорил, что делал в Сантьяго: я приехал посмотреть на карнавал…
— Если ты непричастен к этому делу, — продолжал лейтенант, — то с чего это у тебя дрожат руки?
Рауль посмотрел на свои руки. Они действительно дрожали. Он был спокоен, голос его звучал спокойно, но со своими руками он не мог совладать.
— Тениенте, — сказал он, утрируя свой акцент жителя Ориенте, — надо же понимать. Я парень дере-ревенский, в тюрьме никогда не сидел. Понятно, что я маленько струхнул…
Тениенте не ответил. Он продолжал молча его разглядывать, затем сказал:
— Где-то я видел твое лицо… А ты, часом, не шурин ли Фраги?
Рауль убрал руки с решетки и заложил их за спину.
— Какого еще Фраги? — довольно твердым голосом спросил он.
— Тениенте Фраги!
— Не знаю такого.
— А вот мы сейчас увидим, мерзавец! — сказал лейтенант, бросив на него злобный взгляд, и ушел в свое служебное помещение.
Когда Рауль убедился, что остался один, он отер пот со лба. Тениенте Фрага был мужем его старшей сестры.
Калабосо выходила окнами на внутренний двор этой маленькой казармы. Стоя у решетки своей камеры, Рауль смотрел на дворик, залитый солнцем. Посреди стоял памятник в ознаменование того, что здесь в 1898 году был временно погребен Хосе Марти. Время тянулось долго для Рауля. Он смотрел на памятник, думал о том, что его самого расстреляют и зароют где-нибудь в красной земле Ориенте, без памятника, без надгробной плиты и даже не уведомив его семью, которая так и не узнает, куда бросили его тело.
В казарме пронесся слух, что его подозревают в том, будто он «кореец», и время от времени какой-нибудь солдат, проходя перед калабосо, ругал его.
Толстый сержант с автоматом полчаса шагал из угла в угол перед камерой Рауля и все время твердил:
— Я только и жду, когда ты отсюда выйдешь, чтобы пристукнуть тебя, сволочь…
Рауль ничего не отвечал. Обхватив руками прутья, он смотрел на памятник Хосе Марти. Через некоторое время он заметил, что руки его больше не дрожат.
Он очень удивился, когда ему принесли еду, и заподозрил в этом какую-то ловушку. А так как повар не уходил, он стал есть при нем с ножа, по-мужицки. Потом принялся чавкать, вытирать рот тыльной стороной руки. Пока Рауль разыгрывал эту комедию, он заметил, что у повара забитый вид и он, должно быть, несчастный человек.
Во второй половине дня снова явился тениенте. Он вел за руку старика, которого Рауль сразу узнал. Его звали Фермин Гарсиа, и он работал начальником конторы сахарного сентраля [XXVIII] в Марканэ. Было ясно, что лейтенант послал за стариком, чтобы установить личность своего заключенного. Фермин побледнел, едва подошел в калабосо. Он хорошо знал Рауля и его семью. Но не успел он раскрыть рта, как Рауль протянул ему руку сквозь прутья и воскликнул:
— Как живешь, Фермин? Ты меня не узнал? Да я же Рамон Гонсалес, сын Аркадио Гонсалеса…
Фермин заморгал глазами. Он был слишком честен, чтобы предать Рауля, но слишком напуган, чтобы ему подыгрывать.
— Я тебя не знаю, — проговорил он дрожащим голосом.
— Да ну же, Фермин, — настаивал Рауль, — я ведь сын Аркадио! Я даже как-то продал тебе яйца…
— Нет, нет, — замотал головой Фермин. — Я знаю Аркадио, но тебя — нет, тебя я не знаю.
— Пошли, — сказал тениенте старику. — Мы даром теряем время. Этот мерзавец врет не поперхнется…
После этого брань и угрозы возобновились с новой силой. К вечеру в камеру Рауля ввели какого-то заключенного, но Рауль заподозрил в нем чивато и не оказал ему ни слова. Ночь была долгая и бессонная. Время от времени Рауль вставал со своих нар, делал несколько шагов по камере и смотрел во дворик на озаренный луной памятник Хосе Марти. На другой день была пятница, 31 июля, и в тот самый час, когда монсеньер Перес Серантес ехал в джипе по шоссе на Сибоней, призывая революционеров сдаться, Рауль увидел, как через внутренний дворик прошел хорошо знакомый ему коммивояжер и заговорил с тениенте. Служебное помещение находилось совсем близко от калабосо, и Рауль отчетливо услышал слова, сказанные офицером посетителю:
— Пойдемте, у меня тут есть один гуахиро из Марканэ, мне еще не удалось установить его личность.
Рауль услышал приближающиеся шаги. Он поднял глаза и увидел, что перед ним стоит коммивояжер и с довольным видом рассматривает его. Это был платный чивато Батисты, и он знал, что получит немалый куш за данные им Эхерсито сведения. Рауль посмотрел ему прямо в глаза, но негодяй не отвел взгляда. Он улыбался.
— Ну как, узнаете его? — спросил тениенте.
— Как не узнать! — усмехнулся шпик. — Конечно, узнаю! — Он потирал руки и для вящего эффекта выдержал паузу.
— Ну? — с нетерпением сказал тениенте.
— Это Рауль, сын старика Анхеля и брат Фиделя Кастро!..
Спустя несколько часов Рауля перевезли в Монкаду. Он провел ночь на террасе Хефатуры [XXIX] с другими фиделистами, с минуты на минуту ожидая, что их всех поведут на расстрел. Они уговорились спеть перед казнью гимн «Движения», и это решение, принятое в минуту смертельной тревоги, принесло им некоторое облегчение.
Но на другой день их перевезли в вивак [XXX]. Ветер переменился. Чавиано спешил освободить Монкаду от последних фиделистов, чтобы представить «живым силам» доказательство своей лояльности.
 |
Восемнадцать соратников Фиделя, отправившиеся вместе с ним 26 июля в Гран-Пьедру, были окружены войсками, но солдаты, как мы видели, отнюдь не проявляли боевого пыла. Они перекрыли дороги и прочесывали долины, а вершины гор предоставили фиделистам. Их присутствие, однако, держало в страхе местных жителей, хотя они и сочувствовали революционерам, и вынуждало фиделистов непрерывно переходить с места на место. Долгие утомительные переходы были добавочной нагрузкой к очень тяжелым условиям, в которых они жили около недели. Эти трудности я испытал на себе, когда несколько часов ходил пешком по следам Фиделя: горный массив Гран-Пьедра — далеко не уютное место. Наполовину поросший густыми зарослями, наполовину — лесом, он непроходим из-за отсутствия дорог, склоны у него крутые, бойо — жалкие лачуги — разбросаны далеко друг от друга, родники встречаются редко и часто пересыхают, жара в июле почти непереносима для человека.
В первой бойо, до которой фиделисты добрались 26 июля в 10 часов утра, они не нашли никакой еды. Но хозяйка, старая крестьянка, отдала им все сигареты, какие нашлись в доме. Старухе, морщинистой и сгорбленной, было 70 лет, и она помнила, как помогала ветеранам войны за независимость. О нападении на Монкаду она узнала по радио, и в ее сознании фиделисты отождествлялись с мамби [XXXI]. Когда Фидель сказал ей, что хочет взобраться на вершины Гран-Пьедры, она побоялась, как бы они не заблудились в лесных дебрях, и послала с ними в качестве проводника своего внука. Этот восемнадцатилетний юноша-мулат шагал впереди повстанцев три часа и привел их к первым отрогам хребта. Затем расстался с ними и как ни в чем не бывало отправился один в обратный путь, словно ему предстояла простая прогулка.
Был час дня. Стояла нещадная жара, фиделисты изнемогали от усталости, но вскоре им посчастливилось найти родник. Когда они напились всласть, в них проснулся голод, еще более мучительный, чем прежде. Они ничего не ели со вчерашнего вечера.
Фидель хотел увести свой отряд как можно дальше от Эхерсито, и ему удалось убедить товарищей продолжать поход и ночью. На рассвете, однако, он понял, что силы их иссякли. Он скомандовал привал. Все сразу же повалились на землю и заснули тут же где упали, не попытавшись даже лечь поудобней. Солнце стояло уже высоко, когда их разбудил голод. Они с трудом встали на ноги. Все чувствовали себя опустошенными и слабыми, каждый мускул у них болел. Голодовка их длилась двое суток, сказывалось и вчерашнее чудовищное напряжение. Не многие из них имели достаточную физическую подготовку, чтобы перенести такой тяжелый поход. Вдобавок они были плохо экипированы: в легкой городской обуви, днем — без головных уборов, а ночью — недостаточно тепло одеты. Фидель, Альмейда, Местре и Пепе Суарес, крепкие и тренированные, хорошо перенесли это испытание. Рейнальдо Бевитес, человек волевой и богатырского сложения, не отставал от других, несмотря на рану в бедре. А Оскар Алькальде хотя и страдал ночью от холода, зато днем чувствовал себя хорошо. Но на остальных было жалко смотреть. Время от времени кто-нибудь падал без чувств от жары, слабости или изнеможения. И отряду приходилось делать остановку, пока упавший не мог снова двинуться в путь.
Вопреки усилиям Фиделя, моральное состояние его товарищей было подавленное. Боевое крещение и затем поражение были для них тяжелым шоком, и действие его еще не прошло. Они испытали на себе мощь Эхерсито. Солдат было так много, и они были так хорошо вооружены! А их мало, и они потеряли веру в свое оружие. Годное для уличных боев, оно било на такое короткое расстояние, что здесь, на открытой местности, было бы просто смешным. Столкнувшись с равными им силами Эхерсито, фиделисты не могли бы ни первыми напасть на солдат, ни выдержать бой, если бы те атаковали их. Положение казалось им безвыходным.
27-го, часам к четырем дня, Фидель заметил вдали какую-то бойо и отправил туда в разведку Пепе Суареса. Приблизившись к хижине, Пепе заметил огороженный участок, а внутри — кур и свинью, не меньше сотни фунтов весом. Он остолбенел, глаза у него полезли на лоб, изо рта потекли голодные слюнки. Он побежал к товарищам доложить о результатах разведки. Глаза у них заблестели, и, подойдя к загородке, кое-кто уже стал заряжать ружье.
— Нет, нет, — подняв руку, сказал Фидель. — Мы не поступим, как солдаты. Мы купим свинью за деньги.
Они вывернули свои карманы и, собрав восемнадцать песо, вручили деньги Фиделю. Вскоре появился хозяин бойо. Это был индио (индеец) с тонкими губами и замкнутым лицом. Когда Фидель изложил ему свою просьбу, лицо его стало еще более замкнутым, он покачал головой и отказал. Фидель долго его уговаривал, но тщетно. Несмотря на все свое красноречие, он не мог пробить эту скалу. Разочарование и гнев овладели его товарищами. Послышался ропот, и один из фиделистов в ярости сказал:
— Разве ты не видишь, что мы подыхаем с голоду? Ты что, сам никогда не голодал?
— Это моя свинья, — ответил индио.
Этот ответ взбесил фиделистов, и кто-то из них крикнул с угрожающим видом:
— Нас девятнадцать, а ты один… Мы вооружены, а ты нет… Ну, что ты на это скажешь?
— Скажу, что я не согласен, — ответил индио. Положение спас обычно молчаливый Армандо Местре.
— Послушай, — сказал он индио. — Укажи нам хотя бы бойо, где бы нам продали свинью.
— А вот это пожалуйста, — ответил индио. — У меня есть двоюродный брат, он вам продаст.
— Веди же нас к твоему двоюродному брату, — сказал Фидель.
— А вот этого я не могу, — ответил индио. — Я с ним в ссоре.
— Тем более, — сказал Фидель, хватая его за плечо своей могучей рукой. — Кстати и помиришься с ним…
Индио понял, что беглецы подозревают его в намерении донести на них, как только они уйдут, и счел за лучшее подчиниться. Он зашагал вперед широким и упругим шагом горца. Впрочем, он был, пожалуй, доволен: он спас свою свинью и напустил на свинью своего врага девятнадцать изголодавшихся парней.
Бойо его двоюродного брата находилась в деревушке, насчитывавшей свыше полдюжины хижин. Прием, оказанный этими крестьянами, был совсем не похож на прием одиночки-индейца. Потомки беглых рабов-негров и индейцев, спасавшихся от расправы испанцев, они имели несчетное множество причин ненавидеть Эхерсито и знали цену солидарности. Они дали беглецам все: воду, одежду для тех, кто еще был в военной форме, сигареты и, разумеется, свинью, причем никаких денег не взяли. Женщины зажарили свинью на костре, а бойцы уселись в кружок у огня и, блестя глазами и приоткрыв рот, вдыхали запах жареного мяса.
Тем временем Фидель слушал рассказ владельца свиньи о бесчинствах Эхерсито. Всякий раз, когда солдаты забирались в горы, они по любому поводу вели себя как завоеватели в покоренной стране. Грабежи, насилия, даже убийства стали обычным явлением.
— Послушай, — сказал Фидель. — Эти горы так неприступны, что, будь у вас оружие и немного сметки, вы могли бы стать независимыми. На, возьми этот револьвер. Я тебе его дарю. Если Эхерсито опять придет тебя грабить, защищайся!
Когда бойцы наелись досыта, Марио Ласо попросил крестьян дать ему пустые консервные банки и наполнил их остатками свинины. Затем фиделисты снова двинулись в путь к вершинам гор. Вечером они добрались до маленького ручейка и неподалеку от него переночевали.
28-го утром они вышли к другому поселку и съели остатки свинины. Крестьяне дали им молока. А так как бойцы жаловались на отсутствие курева, Фидель попросил одного индио пойти в деревенскую тиенда (лавочку) и купить для них сигарет и консервированного молока. Между тем несколько фиделистов слушали по радио в одной из бойо речь Батисты по поводу событий в Монкаде. После речи диктор объявил, что прочтет список повстанцев, убитых в бою.
 |
В их числе он назвал Эскалопу и его двух спутников, маленького Эмилио Эрнандеса, который расстался с ними накануне, Абеля и всю его группу и человек пятнадцать товарищей из Артемисы. Когда список был оглашен до конца, бойцы вышли из бойо и побежали к Фиделю с этой ужасной вестью. Он слушал их молча, опустив голову и не поднимая глаз. Когда они перечислили всех погибших, он поднял голову и с волнением спросил:
— А Рауля? Рауля они не назвали?
— Нет, — ответил кто-то. — Его имя не упомянули.
Фидель выпрямился и, как будто сожалея, что задал этот слишком личный вопрос, глухо сказал:
— Это неважно. Все они мои братья.
Помрачневшие, молчаливые, они снова отправились в свой изнурительный поход и шли до вечера. Ночь с 28-го на 29-е они провели на склоне горы. Склон был настолько крут, что им пришлось лежать, упершись ногами в стволы деревьев, чтобы во сне не скатиться вниз. Перед рассветом Фидель дал сигнал выступать. Было еще совсем темно, и, чтобы не потерять друг друга, они шли, держась за руки. Когда они прошли несколько сот метров, Фиделю вдруг пришла в голову мысль сделать перекличку. Он поручил это Пепе Суаресу. Не хватало одного бойца. Перекличку повторили, каждый вполголоса называл свою фамилию. Таким образом установили, что не хватает Монтане, а так как все знали, что он был очень переутомлен, то решили, что он не проснулся, когда отряд снялся с места. Альмейда в полной темноте отправился на розыски. В ожидании возвращения Альмейды сделали остановку, а Фидель и Пепе двинулись вперед, чтобы разведать дорогу.
Не прошли они и пятидесяти метров, как раздались подряд два выстрела. Фидель вздрогнул.
— Пепе! — воскликнул он. — ¡Asaltaron el campamento! (Они напали на наш лагерь!) — И с ружьем в руке кинулся бегом к отряду.
Между тем начался восход и тусклый свет озарил бойцов; среди них царило крайнее смятение.
— Что случилось? — крикнул Фидель.
— Одного ранило. Фидель подошел ближе. Раненым оказался Марио Ласо. У него было пробито плечо, и из раны струей текла кровь. Выяснилось следующее: через несколько минут после того, как Фидель приказал сделать привал, один из бойцов оперся на ружье, заснул и во сне выпустил его из рук. Ружье упало на землю и выстрелило, никого не ранив, но ствол ружья при падении ударился о пистолет, который Ласо положил рядом с собой на землю. Пистолет выстрелил, и пуля попала в Ласо.
Состоялся военный совет. Теперь в отряде было двое раненых, Бенитес и Ласо, и один инвалид — Монтане, который из-за врожденной деформации стопы испытывал при ходьбе мучительную боль. Решено было, что они попытаются добраться до Сантьяго, чтобы попросить убежища в каком-нибудь консульстве и получить там медицинскую помощь. В провожатые им назначили Менендеса, Роселя и Тапанеса. Но тут начался длинный спор, потому что ни раненые, ни сопровождающие не хотели уходить из отряда. В конце концов Фидель просто приказал им, и они повиновались [22].
Настала глубоко волнующая минута, когда шестеро бойцов прощались с товарищами. Их обняли, отдали им все оставшиеся сигареты и банки со сгущенным молоком, и долго глядели вслед, пока они спускались с гор и вдали маячила фигура Ласо, такая приметная, в белой гуайябере [XXXII], запятнанной кровью.
Теперь в отряде Фиделя осталось всего тринадцать человек. Их снова терзали жажда и голод. Сверху они заметили внизу более густую и яркую полосу зелени и подумали, что там течет горный ручей. Поплелись туда. Действительно, там раньше был ручей, но теперь высох, и они побрели вдоль его русла; но оттого что они шли по берегу, воображая как журчит вода во время дождя, им еще больше захотелось пить. Между скалами не было ничего, даже жалкой лужицы. Солнце все выпило. Поднявшись повыше на берег ручья, можно было отчетливо видеть солдат, снующих в долине или по дороге на Сибоней. Джипы Эхерсито беспрерывно проносились по шоссе, а между деревьями виднелись отряды конников.
Фидель видел, что его спутники предельно изнурены, и приказал сделать привал. Когда все уселись, он изложил только что возникший у него план. Оставаться в Гран-Пьедре нельзя. Горный массив слишком мал, здесь нет ни воды, ни пищи, и его скоро окружат солдаты. Нужно снова спуститься вниз, пересечь дорогу на Сибоней, выйти к заливу Сантьяго, переправиться на другой берег на лодке и, наконец, добраться до Сьерра-Маэстры. Там действительно можно будет создать маки. Первая часть плана, несомненно, весьма смелая, была сопряжена с большим риском. Она и вызвала спор. Под влиянием голода, жажды и усталости спор принял беспорядочный и ожесточенный характер. Спорили долго, но к единому мнению так и не пришли. Пять бойцов решили отделиться от отряда и остаться в Гран-Пьедре. То были Хайме Коста, двое братьев Галан, Рикардо Сантана и Ферардо Гранадос [23].
Теперь фиделисты, которых осталось всего восемь, стали спускаться с гор по руслу ручья, чтобы выбраться на шоссе. Едва они двинулись вперед, как полил дождь. Он пошел внезапно, как всегда в тропиках, — теплый, проливной. Для беглецов это была блаженная минута. Они стояли под низвергающимися с неба потоками, вымокшие до нитки, запрокинув голову, и, задыхаясь, ловили ртом отвесные струи воды. Через несколько минут им пришлось покинуть ложе ручья: он сразу превратился в бурный поток.
У них ушло три дня на то, чтобы добраться до шоссе на Сибоней. Сказать, что за эти три дня голод лишил их сил, — мало. Он лишил их всякой способности думать о чем-либо ином, кроме еды. Они были до такой степени одержимы голодом, что потеряли ориентацию и к концу одного дня обнаружили, что сделали круг и вернулись к исходной точке.
30-го они разделили два литра молока, краюху хлеба и две сушеные рыбы на восемь равных частей.
31-го вечером они увидели на склоне холма бойо, которая была как будто недалеко от них. Они застали там какого-то индио, молодого и коренастого, который, сидя на корточках у огня, варил в кастрюле рис. Они тихо подкрались к нему и, ни слова не говоря, даже не замечая его, взяли кастрюлю и ложку у него из рук и стали по очереди есть. На каждого пришлось не больше двух ложек риса, и, когда кастрюля опустела, они уставились на нее, ошеломленные. Передышка длилась всего несколько секунд: их уже снова терзал голод.
— У тебя найдется еще что-нибудь поесть? — хрипло спросил кто-то из них у индио.
— У меня-то ничего нет, — ответил молодой метис. — Но пойдемте со мной, мой хозяин вам что-нибудь даст.
Им пришлось идти два часа, чтобы добраться до финки. Она стояла неподалеку от шоссе на Сибоней, и, когда беглецы подходили к ней, они встретили по дороге хозяина фермы, Сотело. Фидель назвал себя. Сотело сообщил ему о приезде накануне монсеньера Переса Серантеса и о том, как он тщетно взывал на шоссе к фиделистам. Эта новость изменила планы Фиделя. Сейчас и в самом деле стало очевидно, что товарищи, не игравшие руководящей роли, могли сдаться без особого риска; попытаться совершить опасную переправу через залив Сантьяго должны были только те из восьми участников похода, которые несли ответственность за «Движение»: Алькальде, Суарес и он сам.
Но надо было уговорить остальных согласиться принять предложение архиепископа, а это оказалось нелегко. Альмейда в числе прочих решительно отказался. Он хотел продолжать борьбу и уступил только против воли.
Договорились, что Альмейда и его четверо товарищей останутся неподалеку от дороги, и что Сотело в тот же вечер позвонит по телефону архиепископу и попросит его приехать, чтобы встретиться на другое утро с отрядом. Что касается Фиделя и его двух спутников, то у них не хватило духу в тот же вечер пересечь шоссе и отправиться к заливу. Они были слишком истощены голодом, разбиты от усталости, а плотная еда, которой угостил бойцов Сотело, совсем их доконала. Они решили вернуться в ту бойо, где встретили молодого метиса, и там переночевать.
Кондиционированный, то есть охлажденный, воздух, который североамериканцы ввели на Кубе вместе с другими благами цивилизации, несомненно, значительно улучшает жизненные условия, но имеет и один недостаток: теперь стало возможным простудиться в самый разгар тропического лета. Тениенте Луис Сантьяго Гамбоа Аларкон, который должен был дежурить в Монкаде в ночь с 31 июля на 1 августа и в случае надобности отправиться с патрулем в окрестности Сантьяго, лежал в ту ночь у себя дома с сильнейшим гриппом.
По мнению знавших Гамбоа, он был одним из тех, о ком обычно говорят — «он человек не злой». К сожалению, не обязательно быть злым, чтобы совершить преступление. Для этого достаточно быть настолько слабым или настолько тщеславным, чтобы выполнять бесчеловечные приказы. Гамбоа любил медали и позументы и, чтобы их получать, готов был ревностно выполнять все приказы своих начальников. Через четыре года после Монкады, когда войска Батисты сражались с войсками повстанцев в Ориенте, его послали в Баракоа [24], и там без суда и следствия, по простому подозрению, он расстрелял шестерых крестьян, предполагая, что они помогали фиделистам. За этот блестящий подвиг он получил чин капитана, но недолго пользовался выгодами своего повышения. После победы Революции его арестовали, судили и 13 января 1959 года расстреляли.
Зная, что представлял собой Гамбоа, мы можем с уверенностью сказать, что микроб, уложивший его в постель в ночь с 31-го на 1-е, безусловно, спас жизнь Фиделю Кастро. Вместо Гамбоа дежурить назначили тениенте Сарриа. Именно Сарриа в субботу 1 августа получил от капитана Тендрона приказ отправиться в два часа утра с патрулем в Сибоней и обыскать там ферму Манприва, которой владел сеньор Сотело.
 |
Точный характер приказа, данного Сарриа капитаном Тендроном, а именно «обыскать ферму Сотело», раскрывает важную подробность. Он, бесспорно, доказывает, что военные власти в два часа утра уже знали о том, что фиделисты скрываются на этой ферме. Фидель сам долгое время подозревал, что их выдал кто-то из живших на ферме или по соседству. Однако, мне кажется, проще предположить, что телефон архиепископа был под надзором СИМ и разговор Сотело подслушали. Тогда понятно, почему приказ обыскать ферму был дан Сарриа в такой ранний час. По-видимому, Чавиано хотел опередить архиепископа, чтобы солдаты, прибыв на место первыми, могли ликвидировать Фиделя Кастро во время «стычки» или «при попытке к бегству». На этот счет Сарриа не получал никакой специальной инструкции, но в недавнем циркуляре, о котором мы уже говорили, было так ясно сказано, как поступать с повстанцами, захваченными с оружием в руках, что такая инструкция была просто ни к чему. Тениенте Сарриа доверяли и считали, что он с полуслова поймет, чего от него ждут, если заботится о своей карьере.
В патруль, которым командовал Сарриа, входило шестнадцать солдат и один кабо [XXXIII], по имени Суарес. Им не удалось сразу получить грузовик, и они выехали в Сибоней в пять часов утра. Высадив солдат на ферме Сотело, грузовик тотчас вернулся в Монкаду.
Сотело очень встревожился, увидев солдат, но и виду не подал, не стал задавать вопросов, а уверил Сарриа, что «в этих местах все спокойно», и угостил своих посетителей кофе. Чтобы обыскать окрестности, он предложил им в проводники юношу-метиса по имени Камагуэй. Земли на его ферме были совсем не возделаны. Они служили только пастбищем и, не считая нескольких загонов для скота, оставались почти в первозданном состоянии. Перед Сарриа простиралась сильно пересеченная местность с холмами и оврагами, покрытая буйной растительностью и зарослями гвинейской травы, доходившей ему до груди. После часа пути он добрался до небольшого холма, поднялся на него и принялся осматривать местность в бинокль. Ничто не привлекло его внимания, кроме одинокой бойо, стоявшей в двух-трех километрах на косогоре, у подножия величественной и тоже одинокой королевской пальмы. Он спросил у Камагуэя, кто живет в этой хижине.
— Никто, — ответил юноша. — Ее сделали, чтобы было где укрыться, если кого-нибудь вдали от фермы застигнет дождь.
Тут Сарриа вспомнил, что прошлой ночью шел дождь. Если повстанцы находятся в этих местах, хижина могла послужить им убежищем.
Он решил ее обследовать. Из осторожности он расставил своих людей полукругом на расстоянии десятка метров друг от друга и приказал им двигаться бесшумно. Солдаты перестали разговаривать, но те, что шли на левом фланге, как только начался крутой подъем, стали опираться на приклады своих «спрингфилдов», и этот все время повторявшийся стук был слышен издалека.
«Опыт, — говорил Оскар Уайльд, — это название, которое мы даем нашим ошибкам».
— Мы сделали ошибку, — сказал мне Фидель, — что легли спать в бойо. Конечно, было очень соблазнительно улечься под крышей, потому что прошел дождь и земля была влажная… Но это была ошибка, так как, если патруль Эхерсито обыскивает какую-нибудь местность, будь то ночью или днем, он может пропустить что угодно, но только не бойо… Я не забуду этого урока. За два года, проведенные в Сьерра-Маэстре, мы ни разу, ни одного разу не ночевали в бойо. Даже когда с неба лились потоки воды. Мы спали в гамаках, привязанных между деревьями, или прямо на земле, завернувшись в одеяла.
В этот вечер Пепе Суарес, Алькальде и я валились с ног от усталости, а обильная пища после долгой голодовки нас совсем доконала. К тому же в первый раз за целую неделю мы спали в сносных условиях. И мы спали, спали беспробудно…
На заре я услыхал вдали шум, как будто топот сабо. Как я понял потом, это был стук прикладов о землю. Но я так хотел спать, что не мог проснуться по-настоящему. Я повернулся на другой бок и снова заснул. Вдруг дверь распахивается, раздается автоматная очередь, слышатся крики, топот, и я вижу направленные на нас винтовки. Я встаю. Смотрю на солдат и понимаю, что у нас всего один шанс из тысячи выбраться отсюда… [25]
— Тут белые! — завопил один из солдат. И другой подхватил как полоумный:
— Тут белые!
Уже сам тот факт, что обнаруженные ими в бойо трое людей были белые, указывал на то, что это повстанцы, так как работники Гран-Пьедры были все либо черные, либо метисы.
Первыми к бойо подошли солдаты левого крыла. Тениенте Сарриа находился в центре, на некотором расстоянии от хижины и, как только услышал автоматную очередь, закричал:
— Прекратить огонь! Они мне нужны живыми! Но солдаты его не видели — он был слишком далеко — и могли не посчитаться с его приказом. Три солдата, казалось, не собирались подчиняться и делали вид, что ничего не слышат. Особенно один, уверявший, что его брата ранили в Монкаде. Он был чрезвычайно возбужден и с ненавистью целился в Фиделя. Фидель заметил, что руки у него дрожат, а на лбу бьется набухшая вена.
Поведение Фиделя не облегчает положения. Он и не думает мириться. Он стоит, выпрямившись во весь рост, и смело смотрит в глаза солдатам, которые осыпают его ругательствами. Когда самый буйный из них называет его убийцей, он отвечает:
— Это вы убийцы. Вы убиваете безоружных пленных.
На что тот, отыскав в закоулках памяти обрывок заученной фразы, говорит:
— Мы — солдаты освободительной армии.
— Кого же она освобождает, ваша армия? — спрашивает Фидель. — Вы солдаты тирана, вот и все.
Эти слова еще больше озлобляют солдат, и, когда к ним сажеными шагами подходит Сарриа, один из них кричит:
— ¡Vamos a matarlos, teniente! (Мы их убьем, лейтенант!)
— Нет, нет! — кричит Сарриа, поднимая вверх длинную руку с непомерно большой кистью. — Кто смеет говорить об убийстве? Здесь командую я!
По сути Сарриа имеет дело чуть ли не с прямым неповиновением приказу. Но его могучая фигура невольно внушает уважение, а держится он с таким достоинством и говорит так наставительно, что приводит в замешательство солдат. Когда один из них продолжает требовать, чтобы пленников убили немедленно, Сарриа твердо заявляет:
— Не убивайте их! Я вам приказываю не стрелять! — И добавляет: — ¡Las ideas no se matan! ¡Las ideas no se matan! (Идеи убить нельзя!)
Он повторяет эту фразу несколько раз с таким убеждением, что производит сильное впечатление на солдат. Однако они еще далеко не успокоились.
— Где ваше оружие? — спрашивает Сарриа у Фиделя.
— Мы оставили его в горах! — И Фидель неопределенно машет рукой.
— Тогда вы трое отправляйтесь его искать, — говорит Сарриа трем самым оголтелым солдатам.
— Где, тениенте?
— Где хотите.
Они ворчат, но отправляются, и с их уходом сразу становится легче дышать.
Сарриа приказывает солдатам связать руки пленным и спрашивает их имена. Пепе Суарес и Оскар Алькальде называют себя, а Фидель Кастро заявляет, что его зовут Рафаэль Гонсалес. С его стороны скрыть свое имя — разумная предосторожность, так как он знает, что газеты и радио преднамеренно заранее сообщили о его смерти. Но выбранный им псевдоним свидетельствует еще о том, что в ту минуту, когда его собственная жизнь под угрозой, он думает об Абеле. Потому что Рафаэль Гонсалес — это вымышленный персонаж, которого друзья придумали для собственной забавы и которому они приписывали тысячи нелепых поступков.
 |
— Рафаэль Гонсалес? — повторяет Сарриа и вопросительно глядит на Фиделя.
Он встречал его когда-то в Гаванском университете, сдавая экзамены, но не решается опознать, во-первых, потому, что газеты сообщили о его смерти, а во-вторых, потому, что лицо Фиделя так загорело под палящим солнцем Гран-Пьедры, что он похож на негра. Даже его пропыленные волосы кажутся толстыми и курчавыми.
— Ты уверен, что тебя в самом деле зовут Гонсалес? — спрашивает Сарриа, помолчав.
— Да, — не моргнув глазом, отвечает Фидель.
— А где оружие? — настаивает Сарриа. Фидель молчит. В эту минуту он думает, что его сейчас убьют, и не хочет ни говорить, ни делать ничего такого, что противник может истолковать как проявление слабости. Оружие ему теперь не нужно, но сдать его кажется Фиделю равносильным капитуляции. На это он не может пойти и потому молчит.
Оскар Алькальде прекрасно понимает позицию Фиделя, но так же ясно понимает, что положение Сарриа перед солдатами становится очень затруднительным. И он вмешивается, проявляя большую сообразительность.
— Тениенте, — начинает он, — мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз.
Сарриа отводит его в сторону. Оскар Алькальде продолжает шепотом:
— Тениенте, я — франкмасон. Быть может, и вы?..
— Да, я тоже.
— Тогда, как масон масону, а также за то, что вы спасли нам жизнь, я скажу вам, где спрятано оружие. Оно лежит под кустом, в десяти метрах правее бойо.
— Спасибо, — говорит Сарриа. Он отходит, оставляя пленных под охраной самых спокойных солдат и, разумеется, находит оружие: восемь винтовок, три пистолета и целую кучу патронов.
Сарриа очень доволен своей «находкой». С военной точки зрения она завершает взятие неприятеля в плен, а главное, укрепляет его престиж в глазах трех озлобленных солдат, как раз возвращающихся ни с чем после недолгих поисков.
Теперь Сарриа становится полным хозяином положения. Он снова расставляет своих солдат полукругом, сам становится в центре вместе с пленными и дает приказ возвращаться к дороге.
Им остается пройти всего несколько сот метров, когда впереди, на правом крыле, раздаются выстрелы. Саррйа тотчас оборачивается к пленным и кричит:
— Ложись!
Он явно не хочет, чтобы какой-нибудь оголтелый солдат, воспользовавшись перестрелкой, сделал их своей мишенью. По этой же причине он не хочет покидать пленников и предпочитает послать вперед человека, чтобы выяснить, что случилось.
Фидель не ложится, но понимает намерение Сарриа. Это его трогает, и он решает довериться ему. Он подходит и говорит шепотом:
— Я тот самый, о ком вы подумали.
— Кто? — спрашивает Сарриа.
— Вы знаете кто.
Сарриа смотрит на него, тоже тронутый.
— Я это подозревал, но ведь было сообщение о твоей смерти.
— Они предвосхитили событие, — с иронией говорит Фидель. И добавляет: — Если вы меня убьете, то получите большое повышение, тениенте. Вас сделают капитаном.
— Не такой я человек, мучачо, — отвечает Сарриа.
— Ну, а если вы меня пощадите, тогда они убьют вас.
— Пусть убивают, — говорит Сарриа своим обычным строгим и назидательным тоном и, вытянув, вверх громадный указательный палец, чтобы подчеркнуть свои слова, добавляет:
— Моральные принципы — вот что самое важное для человека.
Тем временем стрельба продолжается. Идущие впереди солдаты заметили в сотне метров от дороги группу Альмейды, и, хотя эти люди не вооружены, вояки, нервы которых напряжены до предела, с перепугу подняли по ним стрельбу. К счастью, они бьют мимо цели. Альмейда с товарищами бросаются в траву, в этом месте довольно высокую, и пальба сразу прекращается. Хотя никто не отстреливается, солдаты не смеют двинуться вперед, а когда несколько минут, спустя Альмейда поднимается, они снова принимаются стрелять.
Но тут в дело вмешивается монсеньер Перес Серантес. Он приехал на ферму Сотело всего десять минут назад. Выйдя из джипа, который вел Энрике Канто, он отправился один по дороге. Услышав стрельбу, он не колеблясь идет прямо на выстрелы и вскоре видит Альмейду и его товарищей, лежащих в траве позади небольшого домика, ныне уже разрушенного. Архиепископа отделяет от них ограда из колючей проволоки. Он подбирает сутану, нагибается, пролезает между первым и вторым рядами проволоки и спокойно идет перед беглецами и солдатами, хотя ясно различает наведенные на него винтовки. Он поднимает руки кверху и кричит:
— Не убивайте их! Не убивайте! Я получил официальное обещание от властей!
Солдаты вне себя от страха и ярости. Они чрезвычайно недовольны этим вмешательством. Угрозы и ругательства по адресу кура (попа) сыплются со всех сторон. Монсеньер Перес Серантес одет в простую черную сутану, и никто из солдат его не узнает.
— Эй, поп, не суй свой нос куда не следует! — кричит один.
Другой вопит:
— Кой черт он сюда приперся, este cura de mierda (этот дерьмовый поп)?
А третий целится в него из винтовки и все время твердит, как маньяк:
— ¡Me voy a matar al cura! ¡Me voy a matar al cura! (Сейчас застрелю попа!)
Но винтовка дрожит в его руках, и он никак не может выстрелить.
В эту минуту появляется Сарриа, приказывает прекратить огонь, и все успокаиваются. Солдаты связывают руки Альмейде и его спутникам. Увидев Фиделя, тоже со связанными руками, они делают вид, что не знают его.
Немного позже, когда Сарриа сажает Фиделя рядом с собой в кабину грузовика, один из солдат спрашивает у Альмейды:
— ¿El tipo que va delante, quien es? (Кто этот тип, что сидит впереди?)
— Не знаю, — отвечает Альмейда.
Грузовик одолжил солдатам сосед Сотело, Хуан Лейсан; это был двухсотсильный «шевроле» с открытым кузовом. У пленников руки связаны за спиной, и потому солдатам приходится втаскивать их в кузов.
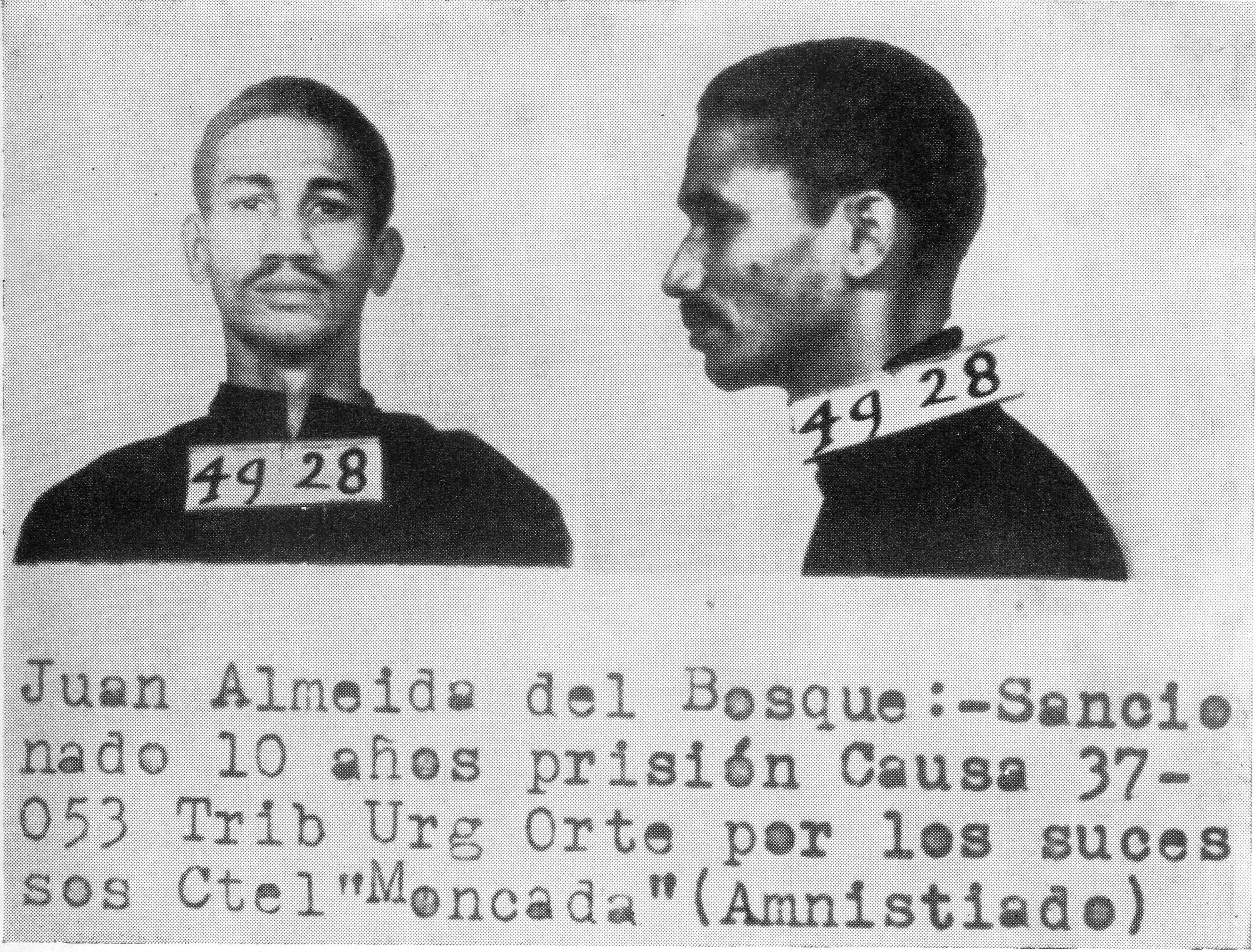 |
— Тениенте, эти пленники находятся под моей защитой. Я гарантировал им неприкосновенность.
— Монсеньер, вы должны оказать об этом полковнику Чавиано, а не мне, — отвечает Сарриа.
Когда архиепископ снова садится в свой джип, Сарриа смотрит на Фиделя, и Фидель одобрительно кивает головой.
— У меня нет ничего общего с монсеньером, — говорит он твердо. — Вы взяли меня в плен, и я ваш пленник.
В словах Фиделя нет никакой враждебности к монсеньеру Пересу Серантесу. Он хочет только, чтобы государственная пропаганда не могла утверждать — что она как раз и делала впоследствии, — будто он «сдался» властям при посредничестве архиепископа. Фидель озабочен политическими соображениями. Он уверен, что будет казнен, и хочет сохранить для будущего престиж «Движения».
Фидель сидит между Хуаном Лейсаном, ведущим грузовик, и Сарриа. Тениенте посадил его сюда не столько из опасений, как бы он не сбежал, сколько желая сам следить за его безопасностью.
В кузове грузовика Альмейде приходится поначалу выслушивать оскорбления толстого солдата-мулата.
— Видели ли вы что-нибудь подобное! Негр-революционер! — издевается мулат.
— А почему бы и нет? — отвечает Альмейда.
— Все негры должны быть батистовцами! [26] — говорит мулат.
— Каждый негр должен сам решать, кем он хочет быть, — возражает Альмейда, за что получает жестокий удар прикладом в бедро и падает. Мулат нагибается, берет его за поясной ремень и снова ставит на ноги, после чего сразу успокаивается.
Товарищи, едущие в кузове, мало разговаривают. Кто-то спрашивает, какое сегодня число. Никто не знает, кроме Оскара Алькальде.
— Сегодня 1 августа, — говорит он. И немного погодя добавляет со своим обычным спокойствием: — Сегодня день моего рождения. Мне исполнился тридцать один год!
В тесном кузове и солдаты и повстанцы — все перемешались, и солдаты испытывают к фиделистам не одну только ненависть и злобу. К их чувствам примешивается и любопытство и даже какая-то доля восхищения. Как и все кубинцы, солдаты Батисты уважают смелость (даже если им самим следует еще многому поучиться в этом отношении) и смотрят с невольным почтением на «корейцев», которые посмели напасть на Монкаду. Однако, чтобы не поддаться этому чувству, они осыпают пленников глупыми насмешками и повторяют сплетни, распространяемые пропагандой СИМ.
— Ваш Фидель Кастро в эту минуту прохлаждается в Гаване с парочкой блондинок, — говорит один солдат, — а вы тут расплачиваетесь, жалкие дураки!
Хотя фиделисты ясно видят голову Фиделя в заднее стекло кабины, они слушают не моргнув глазом. Все молчат. Они не позволяют себе даже улыбнуться.
С фермы Сотело Энрике Канто позвонил по телефону в Монкаду, чтобы сообщить, как он выразился, приятную новость. Отъехав три километра от Севильи, недалеко от финки «Редонда», грузовик Сарриа сталкивается нос к носу с выехавшими ему навстречу грузовиками— они набиты вооруженными солдатами. Впереди в джипе сидят майор Перес Чаумонт и капитан Тендрон. Верные обычаям Эхерсито — как будто шестнадцати солдат Сарриа недостаточно, — они мобилизовали еще сорок человек, чтобы сопровождать до Сантьяго восемь безоружных людей.
«Охос бельос» [XXXIV], расхрабрившийся после всех совершенных им с 26-го преступлений в Канее и Сибонее, снова облачился в военный мундир и обрел былую надменность. Он выходит из джипа, идет, покачивая бедрами, к грузовику и коротко бросает Сарриа:
— Я приехал, чтобы доставить пленных.
Но Сарриа не слезает с грузовика. Он смотрит на Чаумонта с высоты своего сиденья и говорит:
— Это мои пленные. Я сам отвезу их в Монкаду.
Перес Чаумонт смотрит ему прямо в глаза и четко выговаривает:
— Отдай мне того, что сидит рядом с тобой. Остальных можешь оставить себе.
Сарриа отрицательно качает головой, и Чаумонт настаивает, понизив голос:
— Ты что, не понимаешь? Знаешь, кто это? Это — Фидель Кастро. Передай его мне.
— Я не отдам ни его, ни других, — говорит Сарриа.
— Ну, хватит! — кричит взбешенный Перес Чаумонт. — Выполняй приказ.
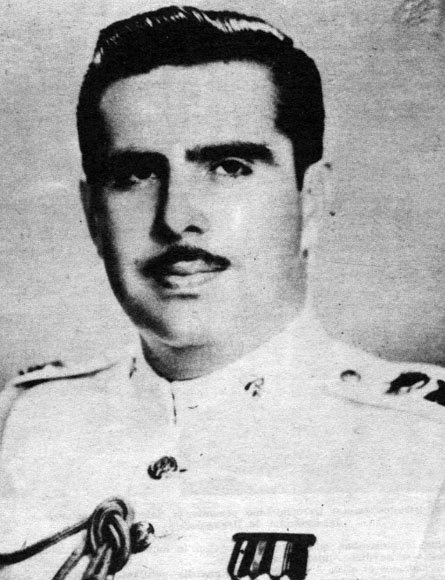 |
— Это я взял в плен этих людей и сам отвезу их в Монкаду, — говорит Сарриа.
Тут вмешивается капитан Тендрон:
— Послушай, Сарриа, полковник поручил поимку мятежников майору Пересу Чаумонту. Значит, ему ты и должен передать пленников.
— Это мои пленники, — отвечает Сарриа, — и я никому их не отдам.
— Слезай с грузовика, Сарриа, и мы потолкуем, — говорит Тендрон.
Но Сарриа понимает его намерение.
— Капитан, я могу потолковать и сидя на месте.
Тендрон и Перес Чаумонт переглядываются. Последнему особенно трудно скрыть свое разочарование. Хотя у него чешутся руки, он не смеет прибегнуть к силе. Тем более что монсеньер Перес Серантес, следовавший на своем джипе сразу за грузовиком с пленными, присутствует при этом споре и слушает с суровым лицом, не произнося ни слова. «Охос бельос», который очень дорожит своей репутацией светского человека, не хочет действовать в своей «обычной манере» перед таким почтенным свидетелем.
— Ну что ж, — обращается он под конец к Сарриа, гневно махнув рукой. — Если ты отказываешься выполнить приказ, тогда уж лучше — вези пленных прямо в вивак, а не в Монкаду…
В этом распоряжении сказалось все мелочное тщеславие этого человека: он не хочет, чтобы тениенте Сарриа повысил свой авторитет в глазах солдат Монкады, доставив в казарму таких «мятежников». Сарриа догадывается о его задней мысли, но он также понимает, что привезти Фиделя в вивак — значит вырвать его из рук Чавиано, Переса Чаумонта и Лавастиды.
— Слушаюсь, майор, — говорит он без тени иронии. — Я отвезу пленных в вивак. — И делает знак Хуану Лейсану, чтобы тот трогался.
Тут я прервал Сарриа:
— Можно мне задать вам вопрос? Почему вы так поступили? По какому побуждению вы рисковали жизнью, чтобы спасти Фиделя? Потому ли, что вы почувствовали к нему особую симпатию, или по другой причине?
 |
Сарриа смотрит на меня. Он сидит, выпрямившись в кресле, положив на колени свои громадные руки, слезы навертываются ему на глаза, и он некоторое время молчит. Потом поднимает вверх указательный палец и говорит с глубоким волнением:
— Благодарю вас, что вы задали мне этот вопрос. Мне задают его в первый раз… — Он снова замолкает, и, мне кажется, я угадываю, о чем он думает. На Кубе Сарриа окружен всеобщей симпатией, но она основана частично на некотором недоразумении. Все благодарны ему за то, что в 1953 году он спас жизнь главе Революционного правительства. Но это ошибка: он спас жизнь не главе государства, а умиравшему с голода беглецу. И он чувствует, что за этот поступок ему не воздали должного.
— Благодарю вас, — повторяет он с глазами, полными слез. — Теперь я отвечу на ваш вопрос… Конечно, я чувствовал симпатию к Фиделю. Этот мучачо мог бы быть моим сыном. И он так гордо, так смело стоял перед направленными на него винтовками. Но не потому, нет, не потому я поступил так, как поступил. Я сделал то, что сделал, не потому, что это был Фидель, а потому, что это был человек… Видите ли, я люблю военное ремесло, но там, где я командую, я считаю, не должно быть преступлений.
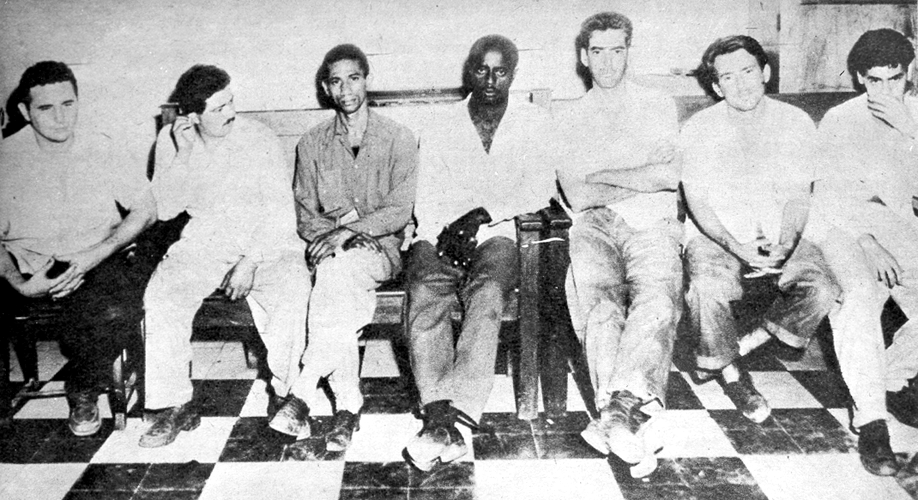 |
Первый человек, которого встретил Сарриа в виваке, после того как передал пленных полиции, был полковник Чавиано. После стычки с Сарриа Перес Чаумонт тотчас известил его по телефону, и Чавиано примчался из Монкады, чтобы заполучить пленника. Едва увидев Сарриа, он тотчас отводит его в сторону. Нафабренные усики подпрыгивают на его гладком фатоватом лице. Он взбешен и обрушивает на тениенте кучу злобных упреков:
— Что вы наделали, Сарриа! Ведь вы же знаете приказ! Что вам стоило, в таком глухом месте… Приказ есть приказ! Надо повиноваться, вот и все! Предупреждаю вас, президент Батиста будет в ярости. Вряд ли это поможет вашей карьере!
Сарриа стоит навытяжку. Он на целую голову выше полковника и спокойно отвечает:
— Полковник, я выполнил свой долг.
— Нет, нет! — взрывается Чавиано. — Твоим долгом было… — Он вовремя спохватывается. — Короче, все это черным по белому написано в циркуляре!.. Во всяком случае, ты должен был отдать этого субъекта Пересу Чаумонту, как он тебе приказывал!.. Ведь он твой начальник!
Тут Сарриа повторяет, лишь немного изменив, тот ответ, который он уже дал Фиделю:
— Полковник, — строго говорит он, — моральные принципы человека — вот что самое важное, а не чин.
— Моральные принципы! — вопит Чавиано, воздевая руки к небу, и уходит весь пунцовый.
В канцелярии вивака, куда приводят Фиделя, он застает полковника Чавиано, майора Моралеса, Сарриа и множество солдат, вооруженных автоматами. Чавиано приказывает развязать руки пленнику и допрашивает его. Начинается диалог, или, вернее, монолог, так как Фидель вскоре совершенно подавляет противника. Чавиано — человек без всяких убеждений, делец самого низкого пошиба. Ему неловко перед Фиделем за те крайности, до которых он дошел и которые поощрял. Если бы только мог, он охотно включил бы Фиделя в список своих жертв. Но когда Фидель стоит перед ним, он не чувствует никакой вражды и вообще не чувствует ничего определенного.
Фидель объясняет ему, что такое «Движение», его методы, его цели, почему оно могло рассчитывать на поддержку народа и какие революционные законы оно собиралось провозгласить, если бы атака закончилась успехом. Чавиано даже не пытается оспаривать точку зрения своего пленника. Он только слушает. Он не спорит. У него нет идеологической позиции, от которой он мог бы отправляться в споре. Допрос-монолог кончается.
 |
— И тут, — говорит мне Фидель, — благодаря своей близорукости, своей тупости и полному отсутствию политических принципов Чавиано и его подручные совершают капитальную ошибку… Они убили столько наших товарищей, общественное мнение так возмущено их преступлениями, что они хотят немного обелить себя, доказав, что я жив. И они мне предлагают, они даже просят меня, чтобы я сделал заявление по радио! Представляете себе, — и, наклонившись ко мне, Фидель слегка хлопает меня по плечу, — до чего доходит кретинизм этих людей! Они предлагают мне взять микрофон и высказать мою точку зрения после всех совершенных ими преступлений, когда они морально безоружны передо мной! Разумеется, я тотчас взял микрофон…
Он смотрит на меня, откидывается на стуле и смеется с хитрым видом.
— И с этой самой минуты, — говорит он, — empezó la segunda fase de la Revolución (началась вторая фаза Революции)!
Фрагменты из книги: Мерль Р. Монкада. Первая битва Фиделя Кастро. М.: Прогресс, 1968.
Перевод с французского Е.М. Шишмарёвой.
Комментарии А.Н. Тарасова.
Робер Жан Жорж Мерль (1908—2004) — знаменитый французский писатель, литературовед, историк литературы, публицист и переводчик, один из основоположников современной французской социальной фантастики. Лауреат престижных французских и англо-американских литературных премий, включая Гонкуровскую (1949).
По образованию философ и литературовед, защитил диссертацию о творчестве Оскара Уайльда. Преподавал в лицеях в разных городах Франции. В 1939 году Р. Мерль был мобилизован и служил в качестве переводчика в частях Британских экспедиционных сил, расположенных в Дюнкерке. Попал в плен к немцам, бежал из лагеря для военнопленных в Германии, но был снова схвачен и вернулся на родину лишь в 1943 году. Дюнкеркской операции посвящен первый роман Мерля «Уик-энд на берегу океана» (Week-end à Zuydcoote, 1949; рус. пер. 1969). С 50-х годов совмещал преподавание в разных университетах с писательским ремеслом и общественной деятельностью. Приобрел славу как автор художественных произведений, посвященных острым социальным, философским и политическим вопросам: антифашизму — «Смерть — мое ремесло» (La mort est mon métier, 1953; рус. пер. 1963), антимилитаризму — фантастические романы «Разумное животное» (Un animal doué de raison, 1967; рус. пер. 1969) и «Мальвиль» (Malevil, 1972; рус. пер. 1977), антиколониализму и антиимпериализму — «Остров» (L’Île, 1962; рус. пер. 1963). Автор книг документальной прозы «Монкада. Первая битва Фиделя Кастро» (Moncada, premier combat de Fidel Castro, 1965; рус. пер. 1968), «Ахмед бен Белла» (Ahmed Ben Bella, 1965), «За стеклом» (Derriere la vitre, 1970; рус. пер. 1972). Драматург, литературовед, историк литературы, публицист. Переводчик с английского, в частности, переводил произведения Джонатана Свифта, Эрскина Колдуэлла, Джона Вебстера. Также перевел с испанского дневники Эрнесто Че Гевары. Пять книг Мерля экранизированы. Автор художественных книг «Защищенные люди» (Les Hommes protégés, 1974), «Мадрапур» (Madrapour, 1976; рус. пер. 1995), «Идол» (L’Idol, 1987), «Солнце встает не для нас» (Le Jour ne se lève pas pour nous, 1987, рус. пер. 1988), «Присущее человеку» (Le Propre de l’homme, 1989), а также 13 исторических романов эпопеи «Судьба Франции» (1977—2003), трех томов произведений для театра и биографически-литературоведческих книг об О. Уайльде.